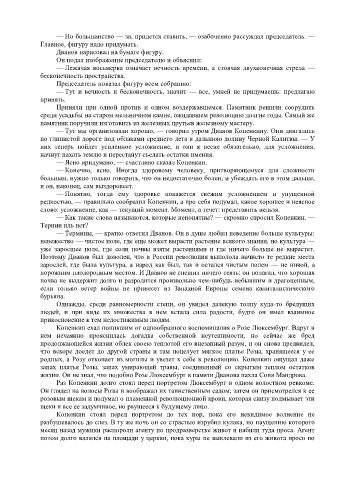Page 69 - Чевенгур
P. 69
— Но большинство — за, придется ставить, — озабоченно рассуждал председатель. —
Главное, фигуру надо придумать.
Дванов нарисовал на бумаге фигуру.
Он подал изображение председателю и объяснил:
— Лежачая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела —
бесконечность пространства.
Председатель показал фигуру всем собранию:
— Тут и вечность и бесконечность, значит — все, умней не придумаешь: предлагаю
принять.
Приняли при одной против и одном воздержавшемся. Памятник решили соорудить
среди усадьбы на старом мельничном камне, ожидавшем революцию долгие годы. Самый же
памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру.
— Тут мы организовали хорошо, — говорил утром Дванов Копенкину. Они двигались
по глинистой дороге под облаками среднего лета в дальнюю долину Черной Калитвы. — У
них теперь пойдет усиленное усложнение, и они к весне обязательно, для усложнения,
начнут пахать землю и перестанут съедать остатки имения.
— Ясно придумано, — счастливо сказал Копенкин.
— Конечно, ясно. Иногда здоровому человеку, притворяющемуся для сложности
больным, нужно только говорить, что он недостаточно болен, и убеждать его в этом дальше,
и он, наконец, сам выздоровеет.
— Понятно, тогда ему здоровье покажется свежим усложнением и упущенной
редкостью, — правильно сообразил Копенкин, а про себя подумал, какое хорошее и неясное
слово: усложнение, как — текущий момент. Момент, а течет: представить нельзя.
— Как такие слова называются, которые непонятны? — скромно спросил Копенкин. —
Тернии иль нет?
— Термины, — кратко ответил Дванов. Он в душе любил неведение больше культуры:
невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура —
уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет.
Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места
зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем — не нивой, а
порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять: он полагал, что хорошая
почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным,
если только ветер войны не принесет из Западной Европы семена капиталистического
бурьяна.
Однажды, среди равномерности степи, он увидел далекую толпу куда-то бредущих
людей, и при виде их множества в нем встала сила радости, будто он имел взаимное
прикосновение к тем недостижимым людям.
Копенкин ехал поникшим от однообразного воспоминания о Розе Люксембург. Вдруг в
нем нечаянно прояснилась догадка собственной неутешимости, но сейчас же бред
продолжающейся жизни облек своею теплотой его внезапный разум, и он снова предвидел,
что вскоре доедет до другой страны и там поцелует мягкое платье Розы, хранящееся у ее
родных, а Розу откопает из могилы и увезет к себе в революцию. Копенкин ощущал даже
запах платья Розы, запах умирающей травы, соединенный со скрытым теплом остатков
жизни. Он не знал, что подобно Розе Люксембург в памяти Дванова пахла Соня Мандрова.
Раз Копенкин долго стоял перед портретом Люксембург в одном волостном ревкоме.
Он глядел на волосы Розы и воображал их таинственным садом; затем он присмотрелся к ее
розовым щекам и подумал о пламенной революционной крови, которая снизу подмывает эти
щеки и все ее задумчивое, но рвущееся к будущему лицо.
Копенкин стоял перед портретом до тех пор, пока его невидимое волнение не
разбушевалось до слез. В ту же ночь он со страстью изрубил кулака, по наущению которого
месяц назад мужики распороли агенту по продразверстке живот и набили туда проса. Агент
потом долго валялся на площади у церкви, пока куры не выклевали из его живота просо по