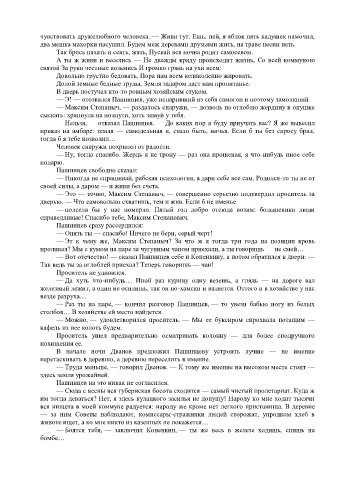Page 74 - Чевенгур
P. 74
чувствовать дружелюбного человека. — Живи тут. Ешь, пей, я яблок пять кадушек намочил,
два мешка махорки насушил. Будем меж деревами друзьями жить, на траве песни петь.
Так брось пахать и сеять, жать, Пускай вся почва родит самосевом.
А ты ж живи и веселись — Не дважды кряду происходит жизнь, Со всей коммуною
святой За руки честные возьмись И громко грянь на ухи всем:
Довольно грустно бедовать, Пора нам всем великолепно жировать.
Долой земные бедные труды, Земля задаром даст нам пропитанье.
В дверь постучал кто-то ровным хозяйским стуком.
— Э! — отозвался Пашинцев, уже испаривший из себя самогон и поэтому замолкший.
— Максим Степаныч, — раздалось снаружи, — дозволь на оглоблю жердину в опушке
сыскать: хряпнула на полпути, хоть зимуй у тебя.
— Нельзя, — отказал Пашинцев. — До каких пор я буду приучать вас? Я же вывесил
приказ на амбаре: земля — самодельная и, стало быть, ничья. Если б ты без спросу брал,
тогда б я тебе позволил…
Человек снаружи похрипел от радости.
— Ну, тогда спасибо. Жердь я не трону — раз она прошеная, я что-нибудь иное себе
подарю.
Пашинцев свободно сказал:
— Никогда не спрашивай, рабская психология, а дари себе все сам. Родился-то ты не от
своей силы, а даром — и живи без счета.
— Это — точно, Максим Степаныч, — совершенно серьезно подтвердил проситель за
дверью. — Что самовольно схватишь, тем и жив. Если б не именье
— полсела бы у нас померло. Пятый год добро отсюда возим: большевики люди
справедливые! Спасибо тебе, Максим Степанович.
Пашинцев сразу рассердился:
— Опять ты — спасибо! Ничего не бери, серый черт!
— Эт к чему же, Максим Степаныч? За что ж я тогда три года на позиции кровь
проливал? Мы с кумом на паре за чугунным чаном приехали, а ты говоришь — не смей…
— Вот отечество! — сказал Пашинцев себе и Копенкину, а потом обратился к двери: —
Так ведь ты за оглоблей приехал? Теперь говоришь — чан!
Проситель не удивился.
— Да хуть что-нибудь… Иной раз курицу одну везешь, а глядь — на дороге вал
железный лежит, а один не осилишь, так он по-хамски и валяется. Оттого и в хозяйстве у нас
везде разруха…
— Раз ты на паре, — кончил разговор Пашинцев, — то увези бабью ногу из белых
столбов… В хозяйстве ей место найдется.
— Можно, — удовлетворился проситель. — Мы ее буксиром спрохвала потащим —
кафель из нее колоть будем.
Проситель ушел предварительно осматривать колонну — для более сподручного
похищения ее.
В начале ночи Дванов предложил Пашинцеву устроить лучше — не имение
перетаскивать в деревню, а деревню переселить в имение.
— Труда меньше, — говорил Дванов. — К тому же имение на высоком месте стоит —
здесь земля урожайней.
Пашинцев на это никак не согласился.
— Сюда с весны вся губернская босота сходится — самый чистый пролетариат. Куда ж
им тогда деваться? Нет, я здесь кулацкого засилья не допущу! Народу ко мне ходит тысячи
вся нищета в моей коммуне радуется: народу же кроме нет легкого пристанища. В деревне
— за ним Советы наблюдают, комиссары-стражники людей сторожат, упродком хлеб в
животе ищет, а ко мне никто из казенных не покажется…
— Боятся тебя, — заключил Копенкин, — ты же весь в железе ходишь, спишь на
бомбе…