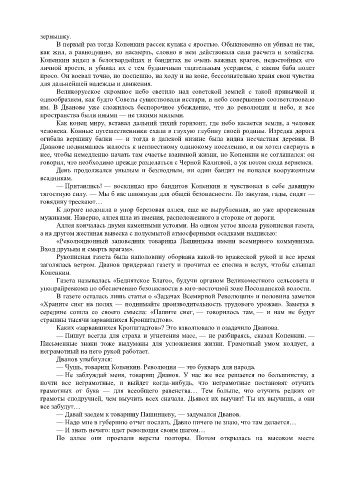Page 70 - Чевенгур
P. 70
зернышку.
В первый раз тогда Копенкин рассек кулака с яростью. Обыкновенно он убивал не так,
как жил, а равнодушно, но насмерть, словно в нем действовала сила расчета и хозяйства.
Копенкин видел в белогвардейцах и бандитах не очень важных врагов, недостойных его
личной ярости, и убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полет
просо. Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства
для дальнейшей надежды и движения.
Великорусское скромное небо светило над советской землей с такой привычкой и
однообразием, как будто Советы существовали исстари, и небо совершенно соответствовало
им. В Дванове уже сложилось беспорочное убеждение, что до революции и небо, и все
пространства были иными — не такими милыми.
Как конец миру, вставал дальний тихий горизонт, где небо касается земли, а человек
человека. Конные путешественники ехали в глухую глубину своей родины. Изредка дорога
огибала вершину балки — и тогда в далекой низине была видна несчастная деревня. В
Дванове поднималась жалость к неизвестному одинокому поселению, и он хотел свернуть в
нее, чтобы немедленно начать там счастье взаимной жизни, но Копенкин не соглашался: он
говорил, что необходимо прежде разделаться с Черной Калитвой, а уж потом сюда вернемся.
День продолжался унылым и безлюдным, ни один бандит не попался вооруженным
всадникам.
— Притаились! — восклицал про бандитов Копенкин и чувствовал в себе давящую
тягостную силу. — Мы б вас шпокнули для общей безопасности. По закутам, гады, сидят —
говядину трескают…
К дороге подошла в упор березовая аллея, еще не вырубленная, но уже прореженная
мужиками. Наверно, аллея шла из имения, расположенного в стороне от дороги.
Аллея кончалась двумя каменными устоями. На одном устое висела рукописная газета,
а на другом жестяная вывеска с полусмытой атмосферными осадками надписью:
«Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма.
Вход друзьям и смерть врагам».
Рукописная газета была наполовину оборвана какой-то вражеской рукой и все время
заголялась ветром. Дванов придержал газету и прочитал ее сполна и вслух, чтобы слышал
Копенкин.
Газета называлась «Беднятское Благо», будучи органом Великоместного сельсовета и
уполрайревкома по обеспечению безопасности в юго-восточной зоне Посошанской волости.
В газете осталась лишь статья о «Задачах Всемирной Революции» и половина заметки
«Храните снег на полях — поднимайте производительность трудового урожая». Заметка в
середине сошла со своего смысла: «Пашите снег, — говорилось там, — и нам не будут
страшны тысячи зарвавшихся Кронштадтов».
Каких «зарвавшихся Кронштадтов»? Это взволновало и озадачило Дванова.
— Пишут всегда для страха и угнетения масс, — не разбираясь, сказал Копенкин. —
Письменные знаки тоже выдуманы для усложнения жизни. Грамотный умом колдует, а
неграмотный на него рукой работает.
Дванов улыбнулся:
— Чушь, товарищ Копенкин. Революция — это букварь для народа.
— Не заблуждай меня, товарищ Дванов. У нас же все решается по большинству, а
почти все неграмотные, и выйдет когда-нибудь, что неграмотные постановят отучить
грамотных от букв — для всеобщего равенства… Тем больше, что отучить редких от
грамоты сподручней, чем выучить всех сначала. Дьявол их выучит! Ты их выучишь, а они
все забудут…
— Давай заедем к товарищу Пашинцеву, — задумался Дванов.
— Надо мне в губернию отчет послать. Давно ничего не знаю, что там делается…
— И знать нечего: идет революция своим шагом…
По аллее они проехали версты полторы. Потом открылась на высоком месте