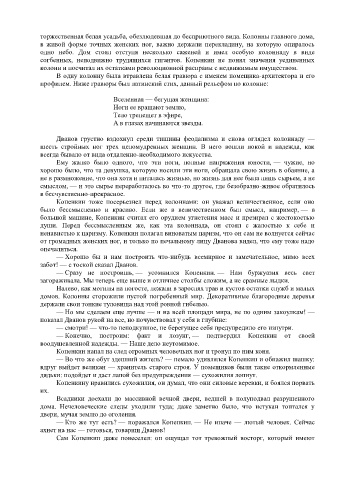Page 71 - Чевенгур
P. 71
торжественная белая усадьба, обезлюдевшая до бесприютного вида. Колонны главного дома,
в живой форме точных женских ног, важно держали перекладину, на которую опиралось
одно небо. Дом стоял отступя несколько саженей и имел особую колоннаду в виде
согбенных, неподвижно трудящихся гигантов. Копенкин не понял значения уединенных
колонн и посчитал их остатками революционной расправы с недвижимым имуществом.
В одну колонну была втравлена белая гравюра с именем помещика-архитектора и его
профилем. Ниже гравюры был латинский стих, данный рельефом по колонне:
Вселенная — бегущая женщина:
Ноги ее вращают землю,
Тело трепещет в эфире,
А в глазах начинаются звезды.
Дванов грустно вздохнул среди тишины феодализма и снова оглядел колоннаду —
шесть стройных ног трех целомудренных женщин. В него вошли покой и надежда, как
всегда бывало от вида отдаленно-необходимого искусства.
Ему жалко было одного, что эти ноги, полные напряжения юности, — чужие, но
хорошо было, что та девушка, которую носили эти ноги, обращала свою жизнь в обаяние, а
не в размножение, что она хотя и питалась жизнью, но жизнь для нее была лишь сырьем, а не
смыслом, — и это сырье переработалось во что-то другое, где безобразно-живое обратилось
в бесчувственно-прекрасное.
Копенкин тоже посерьезнел перед колоннами: он уважал величественное, если оно
было бессмысленно и красиво. Если же в величественном был смысл, например, — в
большой машине, Копенкин считал его орудием угнетения масс и презирал с жестокостью
души. Перед бессмысленным же, как эта колоннада, он стоял с жалостью к себе и
ненавистью к царизму. Копенкин полагал виноватым царизм, что он сам не волнуется сейчас
от громадных женских ног, и только по печальному лицу Дванова видел, что ему тоже надо
опечалиться.
— Хорошо бы и нам построить что-нибудь всемирное и замечательное, мимо всех
забот! — с тоской сказал Дванов.
— Сразу не построишь, — усомнился Копенкин. — Нам буржуазия весь свет
загораживала. Мы теперь еще выше и отличнее столбы сложим, а не срамные лыдки.
Налево, как могилы на погосте, лежали в зарослях трав и кустов остатки служб и малых
домов. Колонны сторожили пустой погребенный мир. Декоративные благородные деревья
держали свои тонкие туловища над этой ровной гибелью.
— Но мы сделаем еще лучше — и на всей площади мира, не по одним закоулкам! —
показал Дванов рукой на все, но почувствовал у себя в глубине:
— смотри! — что-то неподкупное, не берегущее себя предупредило его изнутри.
— Конечно, построим: факт и лозунг, — подтвердил Копенкин от своей
воодушевленной надежды. — Наше дело неутомимое.
Копенкин напал на след огромных человечьих ног и тронул по ним коня.
— Во что же обут здешний житель? — немало удивлялся Копенкин и обнажил шашку:
вдруг выйдет великан — хранитель старого строя. У помещиков были такие откормленные
дядьки: подойдет и даст лапой без предупреждения — сухожилия лопнут.
Копенкину нравились сухожилия, он думал, что они силовые веревки, и боялся порвать
их.
Всадники доехали до массивной вечной двери, ведшей в полуподвал разрушенного
дома. Нечеловеческие следы уходили туда; даже заметно было, что истукан топтался у
двери, мучая землю до оголения.
— Кто же тут есть? — поражался Копенкин. — Не иначе — лютый человек. Сейчас
ахнет на нас — готовься, товарищ Дванов!
Сам Копенкин даже повеселел: он ощущал тот тревожный восторг, который имеют