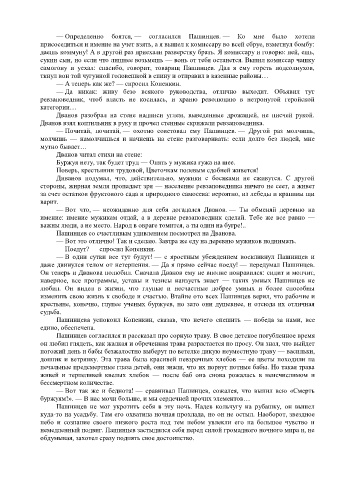Page 75 - Чевенгур
P. 75
— Определенно боятся, — согласился Пашинцев. — Ко мне было хотели
присоседиться и имение на учет взять, а я вышел к комиссару во всей сбруе, взметнул бомбу:
даешь коммуну! А в другой раз приехали разверстку брать. Я комиссару и говорю: пей, ешь,
сукин сын, но если что лишнее возьмешь — вонь от тебя останется. Выпил комиссар чашку
самогону и уехал: спасибо, говорит, товарищ Пашинцев. Дал я ему горсть подсолнухов,
ткнул вон той чугунной головешкой в спину и отправил в казенные районы…
— А теперь как же? — спросил Копенкин.
— Да никак: живу безо всякого руководства, отлично выходит. Объявил тут
ревзаповедник, чтоб власть не косилась, и храню революцию в нетронутой геройской
категории…
Дванов разобрал на стене надписи углем, выведенные дрожащей, не писчей рукой.
Дванов взял коптильник в руку и прочел стенные скрижали ревзаповедника.
— Почитай, почитай, — охотно советовал ему Пашинцев. — Другой раз молчишь,
молчишь — намолчишься и начнешь на стене разговаривать: если долго без людей, мне
мутно бывает…
Дванов читал стихи на стене:
Буржуя нету, так будет труд — Опять у мужика гужа на шее.
Поверь, крестьянин трудовой, Цветочкам полевым сдобней живется!
Диванов подумал, что, действительно, мужики с босяками не сживутся. С другой
стороны, жирная земля пропадает зря — население ревзаповедника ничего не сеет, а живет
за счет остатков фруктового сада и природного самосева: вероятно, из лебеды и крапивы щи
варит.
— Вот что, — неожиданно для себя догадался Дванов. — Ты обменяй деревню на
имение: имение мужикам отдай, а в деревне ревзаповедник сделай. Тебе же все равно —
важны люди, а не место. Народ в овраге томится, а ты один на бугре!..
Пашинцев со счастливым удивлением посмотрел на Дванова.
— Вот это отлично! Так и сделаю. Завтра же еду на деревню мужиков поднимать.
— Поедут? — спросил Копенкин.
— В одни сутки все тут будут! — с яростным убеждением воскликнул Пашинцев и
даже двинулся телом от нетерпения. — Да я прямо сейчас поеду! — передумал Пашинцев.
Он теперь и Дванова полюбил. Сначала Дванов ему не вполне понравился: сидит и молчит,
наверное, все программы, уставы и тезисы наизусть знает — таких умных Пашинцев не
любил. Он видел в жизни, что глупые и несчастные добрее умных и более способны
изменить свою жизнь к свободе и счастью. Втайне ото всех Пашинцев верил, что рабочие и
крестьяне, конечно, глупее ученых буржуев, но зато они душевнее, и отсюда их отличная
судьба.
Пашинцева успокоил Копенкин, сказав, что нечего спешить — победа за нами, все
едино, обеспечена.
Пашинцев согласился и рассказал про сорную траву. В свое детское погубленное время
он любил глядеть, как жалкая и обреченная трава разрастается по просу. Он знал, что выйдет
погожий день и бабы безжалостно выберут по ветелке дикую неуместную траву — васильки,
донник и ветрянку. Эта трава была красивей невзрачных хлебов — ее цветы походили на
печальные предсмертные глаза детей, они знали, что их порвут потные бабы. Но такая трава
живей и терпеливей квелых хлебов — после баб она снова рожалась в неисчислимом и
бессмертном количестве.
— Вот так же и беднота! — сравнивал Пашинцев, сожалея, что выпил всю «Смерть
буржуям!». — В нас мочи больше, и мы сердечней прочих элементов…
Пашинцев не мог укротить себя в эту ночь. Надев кольчугу на рубашку, он вышел
куда-то на усадьбу. Там его охватила ночная прохлада, но он не остыл. Наоборот, звездное
небо и сознание своего низкого роста под тем небом увлекли его на большое чувство и
немедленный подвиг. Пашинцев застыдился себя перед силой громадного ночного мира и, не
обдумывая, захотел сразу поднять свое достоинство.