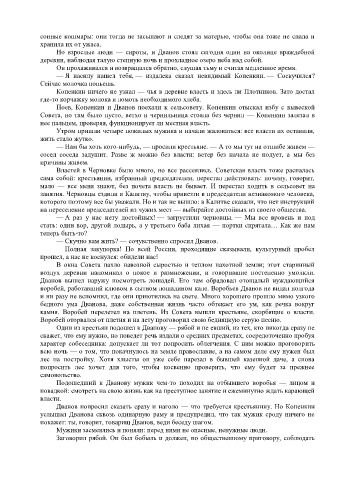Page 82 - Чевенгур
P. 82
сонные кошмары: они тогда не засыпают и следят за матерью, чтобы она тоже не спала и
хранила их от ужаса.
Но взрослые люди — сироты, и Дванов стоял сегодня один на околице враждебной
деревни, наблюдая талую степную ночь и прохладное озеро неба над собой.
Он прохаживался и возвращался обратно, слушая тьму и считая медленное время.
— Я насилу нашел тебя, — издалека сказал невидимый Копенкин. — Соскучился?
Сейчас молочка попьешь.
Копенкин ничего не узнал — чья в деревне власть и здесь ли Плотников. Зато достал
где-то корчажку молока и ломоть необходимого хлеба.
Поев, Копенкин и Дванов поехали к сельсовету. Копенкин отыскал избу с вывеской
Совета, но там было пусто, ветхо и чернильница стояла без чернил — Копенкин залезал в
нее пальцем, проверяя, функционирует ли местная власть.
Утром пришли четыре пожилых мужика и начали жаловаться: все власти их оставили,
жить стало жутко.
— Нам бы хоть кого-нибудь, — просили крестьяне. — А то мы тут на отшибе живем —
сосед соседа задушит. Разве ж можно без власти: ветер без начала не подует, а мы без
причины живем.
Властей в Черновке было много, но все рассеялись. Советская власть тоже распалась
сама собой: крестьянин, избранный председателем, перестал действовать: почему, говорит,
мало — все меня знают, без почета власть не бывает. И перестал ходить в сельсовет на
занятия. Черновцы ездили в Калитву, чтобы привезти в председатели незнакомого человека,
которого поэтому все бы уважали. Но и так не вышло: в Калитве сказали, что нет инструкций
на переселение председателей из чужих мест — выбирайте достойных из своего общества.
— А раз у нас нету достойных! — загрустили черновцы. — Мы все вровень и под
стать: один вор, другой лодырь, а у третьего баба лихая — портки спрятала… Как же нам
теперь быть-то?
— Скучно вам жить? — сочувственно спросил Дванов.
— Полная закупорка! По всей России, проходящие сказывали, культурный пробел
прошел, а нас не коснулся: обидели нас!
В окна Совета пахло навозной сыростью и теплом пахотной земли; этот старинный
воздух деревни напоминал о покое и размножении, и говорившие постепенно умолкли.
Дванов вышел наружу посмотреть лошадей. Его там обрадовал отощалый нуждающийся
воробей, работавший клювом в сытном лошадином кале. Воробьев Дванов не видал полгода
и ни разу не вспомнил, где они приютились на свете. Много хорошего прошло мимо узкого
бедного ума Дванова, даже собственная жизнь часто обтекает его ум, как речка вокруг
камня. Воробей перелетел на плетень. Из Совета вышли крестьяне, скорбящие о власти.
Воробей оторвался от плетня и на лету проговорил свою бедняцкую серую песню.
Один из крестьян подошел к Дванову — рябой и не евший, из тех, кто никогда сразу не
скажет, что ему нужно, но поведет речь издали о средних предметах, сосредоточенно пробуя
характер собеседника: допускает ли тот попросить облегчения. С ним можно проговорить
всю ночь — о том, что покачнулось на земле православие, а на самом деле ему нужен был
лес на постройку. Хотя хлысты он уже себе нарезал в бывшей казенной даче, а снова
попросить лес хочет для того, чтобы косвенно проверить, что ему будет за прежнее
самовольство.
Подошедший к Дванову мужик чем-то походил на отбывшего воробья — лицом и
повадкой: смотреть на свою жизнь как на преступное занятие и ежеминутно ждать карающей
власти.
Дванов попросил сказать сразу и наголо — что требуется крестьянину. Но Копенкин
услышал Дванова сквозь одинарную раму и предупредил, что так мужик сроду ничего не
покажет: ты, говорит, товарищ Дванов, веди беседу шагом.
Мужики засмеялись и поняли: перед ними не опасные, ненужные люди.
Заговорил рябой. Он был бобыль и должен, по общественному приговору, соблюдать