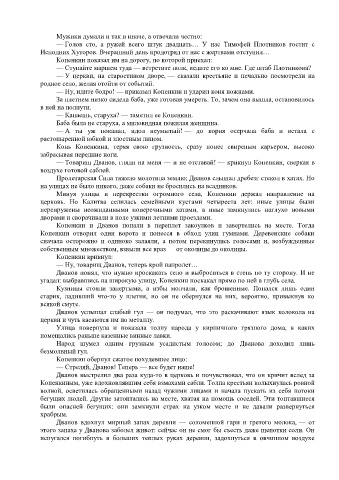Page 78 - Чевенгур
P. 78
Мужики думали и так и иначе, а отвечали честно:
— Голов сто, а ружей всего штук двадцать… У нас Тимофей Плотников гостит с
Исподних Хуторов. Вчерашний день продотряд от нас с жертвами отступил…
Копенкин показал им на дорогу, по которой приехал:
— Ступайте маршем туда — встретите полк, ведите его ко мне. Где штаб Плотникова?
— У церкви, на старостином дворе, — сказали крестьяне и печально посмотрели на
родное село, желая отойти от событий.
— Ну, идите бодро! — приказал Копенкин и ударил коня ножнами.
За плетнем низко сидела баба, уже готовая умереть. То, зачем она вышла, остановилось
в ней на полпути.
— Капаешь, старуха? — заметил ее Копенкин.
Баба была не старуха, а миловидная пожилая женщина.
— А ты уж покапал, идол неумытый! — до корня осерчала баба и встала с
растопыренной юбкой и злостным лицом.
Конь Копенкина, теряя свою грузность, сразу понес свирепым карьером, высоко
забрасывая передние ноги.
— Товарищ Дванов, гляди на меня — и не отставай! — крикнул Копенкин, сверкая в
воздухе готовой саблей.
Пролетарская Сила тяжело молотила землю; Дванов слышал дребезг стекол в хатах. Но
на улицах не было никого, даже собаки не бросились на всадников.
Минуя улицы и перекрестки огромного села, Копенкин держал направление на
церковь. Но Калитва селилась семейными кустами четыреста лет: иные улицы были
перепружены неожиданными поперечными хатами, а иные замкнулись наглухо новыми
дворами и сворачивали в поле узкими летними проездами.
Копенкин и Дванов попали в переплет закоулков и завертелись на месте. Тогда
Копенкин отворил одни ворота и понесся в обход улиц гумнами. Деревенские собаки
сначала осторожно и одиноко залаяли, а потом перекинулись голосами и, возбужденные
собственным множеством, взвыли все враз — от околицы до околицы.
Копенкин крикнул:
— Ну, товарищ Дванов, теперь крой напролет…
Дванов понял, что нужно проскакать село и выброситься в степь по ту сторону. И не
угадал: выбравшись на широкую улицу, Копенкин поскакал прямо по ней в глубь села.
Кузницы стояли запертыми, а избы молчали, как брошенные. Попался лишь один
старик, ладивший что-то у плетня, но он не обернулся на них, вероятно, привыкнув ко
всякой смуте.
Дванов услышал слабый гул — он подумал, что это раскачивают язык колокола на
церкви и чуть касаются им по металлу.
Улица повернула и показала толпу народа у кирпичного грязного дома, в каких
помещались раньше казенные винные лавки.
Народ шумел одним грузным усадистым голосом; до Дванова доходил лишь
безмолвный гул.
Копенкин обернул сжатое похудевшее лицо:
— Стреляй, Дванов! Теперь — все будет наше!
Дванов выстрелил два раза куда-то в церковь и почувствовал, что он кричит вслед за
Копенкиным, уже вдохновлявшим себя взмахами сабли. Толпа крестьян колыхнулась ровной
волной, осветилась обращенными назад чужими лицами и начала пускать из себя потоки
бегущих людей. Другие затоптались на месте, хватая на помощь соседей. Эти топтавшиеся
были опасней бегущих: они замкнули страх на узком месте и не давали развернуться
храбрым.
Дванов вдохнул мирный запах деревни — соломенной гари и гретого молока, — от
этого запаха у Дванова заболел живот: сейчас он не смог бы съесть даже щепотки соли. Он
испугался погибнуть в больших теплых руках деревни, задохнуться в овчинном воздухе