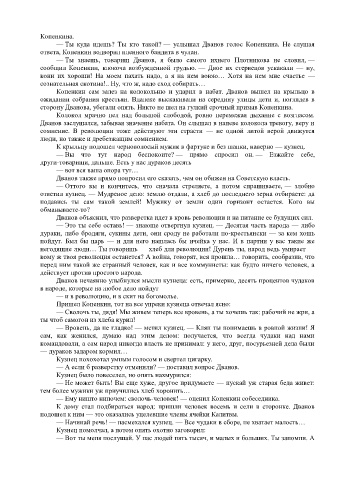Page 80 - Чевенгур
P. 80
Копенкина.
— Ты куда идешь? Ты кто такой? — услышал Дванов голос Копенкина. Не слушая
ответа, Копенкин водворил пленного бандита в чулан.
— Ты знаешь, товарищ Дванов, я было самого ихнего Плотникова не словил, —
сообщил Копенкин, клокоча возбужденной грудью. — Двое их стервецов ускакали — ну,
кони их хороши! На моем пахать надо, а я на нем воюю… Хотя на нем мне счастье —
сознательная скотина!.. Ну, что ж, надо сход собирать…
Копенкин сам залез на колокольню и ударил в набат. Дванов вышел на крыльцо в
ожидании собрания крестьян. Вдалеке выскакивали на середину улицы дети и, поглядев в
сторону Дванова, убегали опять. Никто не шел на гулкий срочный призыв Копенкина.
Колокол мрачно пел над большой слободой, ровно перемежая дыхание с возгласом.
Дванов заслушался, забывая значение набата. Он слышал в напеве колокола тревогу, веру и
сомнение. В революции тоже действуют эти страсти — не одной литой верой движутся
люди, но также и дребезжащим сомнением.
К крыльцу подошел черноволосый мужик в фартуке и без шапки, наверно — кузнец.
— Вы что тут народ беспокоите? — прямо спросил он. — Езжайте себе,
други-товарищи, дальше. Есть у нас дураков десять
— вот вся ваша опора тут…
Дванов также прямо попросил его сказать, чем он обижен на Советскую власть.
— Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете, — злобно
ответил кузнец. — Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да
подавись ты сам такой землей! Мужику от земли один горизонт остается. Кого вы
обманываете-то?
Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил.
— Это ты себе оставь! — знающе отвергнул кузнец. — Десятая часть народа — либо
дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски — за кем хошь
пойдут. Был бы царь — и для него нашлась бы ичейка у нас. И в партии у вас такие же
негодящие люди… Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает —
кому ж твоя революция останется? А война, говорят, вся прошла… говорить, сообразив, что
перед ним такой же странный человек, как и все коммунисты: как будто ничего человек, а
действует против простого народа.
Дванов нечаянно улыбнулся мысли кузнеца: есть, примерно, десять процентов чудаков
в народе, которые на любое дело пойдут
— и в революцию, и в скит на богомолье.
Пришел Копенкин, тот на все упреки кузнеца отвечал ясно:
— Сволочь ты, дядя! Мы живем теперь все вровень, а ты хочешь так: рабочий не жри, а
ты чтоб самогон из хлеба курил!
— Вровень, да не гладко! — мстил кузнец. — Кляп ты понимаешь в ровной жизни! Я
сам, как женился, думаю над этим делом: получается, что всегда чудаки над нами
командовали, а сам народ никогда власть не принимал: у него, друг, посурьезней дела были
— дураков задаром кормил…
Кузнец похохотал умным голосом и свертел цигарку.
— А если б разверстку отменили? — поставил вопрос Дванов.
Кузнец было повеселел, но опять нахмурился:
— Не может быть! Вы еще хуже, другое придумаете — пускай уж старая беда живет:
тем более мужики уж приучились хлеб хоронить…
— Ему ништо нипочем: сволочь-человек! — оценил Копенкин собеседника.
К дому стал подбираться народ: пришли человек восемь и сели в сторонке. Дванов
подошел к ним — это оказались уцелевшие члены ячейки Калитвы.
— Начинай речь! — насмехался кузнец. — Все чудаки в сборе, не хватает малость…
Кузнец помолчал, а потом опять охотно заговорил:
— Вот ты меня послушай. У нас людей пять тысяч, и малых и больших. Ты запомни. А