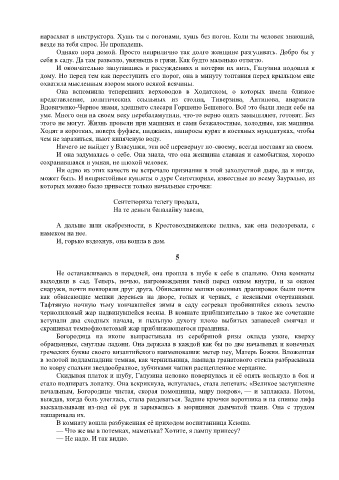Page 183 - Доктор Живаго
P. 183
нарасхват в инструктора. Хушь ты с погонами, хушь без погон. Коли ты человек знающий,
везде на тебя спрос. Не пропадешь.
Однако пора домой. Просто неприлично так долго женщине разгуливать. Добро бы у
себя в саду. Да там развезло, увязнешь в грязи. Как будто маленько отлегло.
И окончательно запутавшись в рассуждениях и потеряв их нить, Галузина подошла к
дому. Но перед тем как переступить его порог, она в минуту топтания перед крыльцом еще
охватила мысленным взором много всякой всячины.
Она вспомнила теперешних верховодов в Ходатском, о которых имела близкое
представление, политических ссыльных из столиц, Тиверзина, Антипова, анархиста
Вдовиченко-Черное знамя, здешнего слесаря Горшеню Бешеного. Всё это были люди себе на
уме. Много они на своем веку перебаламутили, что-то верно опять замышляют, готовят. Без
этого не могут. Жизнь провели при машинах и сами безжалостные, холодные, как машины.
Ходят в коротких, поверх фуфаек, пиджаках, папиросы курят в костяных мундштуках, чтобы
чем не заразиться, пьют кипяченую воду.
Ничего не выйдет у Власушки, эти всё перевернут по-своему, всегда поставят на своем.
И она задумалась о себе. Она знала, что она женщина славная и самобытная, хорошо
сохранившаяся и умная, не плохой человек.
Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре, да и нигде,
может быть. И непристойные куплеты о дуре Сентетюрихе, известные по всему Зауралью, из
которых можно было привести только начальные строчки:
Сентетюриха телегу продала,
На те деньги балалайку завела,
А дальше шли скабрезности, в Крестовоздвиженске пелись, как она подозревала, с
намеком на нее.
И, горько вздохнув, она вошла в дом.
5
Не останавливаясь в передней, она прошла в шубе к себе в спальню. Окна комнаты
выходили в сад. Теперь, ночью, нагромождения теней перед окном внутри, и за окном
снаружи, почти повторяли друг друга. Обвисавшие мешки оконных драпировок были почти
как обвисающие мешки деревьев на дворе, голых и черных, с неясными очертаниями.
Тафтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю
чернолиловый жар надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание
вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и
скрашивал темнофиолетовый жар приближающегося праздника.
Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, кверху
обращенные, смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных
греческих буквы своего византийского наименования: метер неу, Матерь Божия. Вложенная
в золотой подлампадник темная, как чернильница, лампада гранатового стекла разбрасывала
по ковру спальни звездообразное, зубчиками чашки расщепленное мерцание.
Скидывая платок и шубу, Галузина неловко повернулась и её опять кольнуло в бок и
стало подпирать лопатку. Она вскрикнула, испугалась, стала лепетать: «Великое заступление
печальным, Богородице чистая, скорая помощница, миру покров», — и заплакала. Потом,
выждав, когда боль улеглась, стала раздеваться. Задние крючки воротника и на спинке лифа
выскальзывали из-под её рук и зарывались в морщинки дымчатой ткани. Она с трудом
нашаривала их.
В комнату вошла разбуженная её приходом воспитанница Ксюша.
— Что же вы в потемках, маменька? Хотите, я лампу принесу?
— Не надо. И так видно.