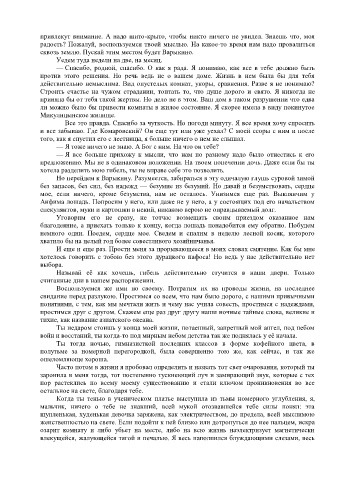Page 246 - Доктор Живаго
P. 246
привлекут внимание. А надо шито-крыто, чтобы никто ничего не увидел. Знаешь что, моя
радость? Пожалуй, воспользуемся твоей мыслью. На какое-то время нам надо провалиться
сквозь землю. Пускай этим местом будет Варыкино.
Уедем туда недели на две, на месяц.
— Спасибо, родной, спасибо. О как я рада. Я понимаю, как все в тебе должно быть
против этого решения. Но речь ведь не о вашем доме. Жизнь в нем была бы для тебя
действительно немыслима. Вид опустелых комнат, укоры, сравнения. Разве я не понимаю?
Строить счастье на чужом страдании, топтать то, что душе дорого и свято. Я никогда не
приняла бы от тебя такой жертвы. Но дело не в этом. Ваш дом в таком разрушении что едва
ли можно было бы привести комнаты в жилое состояние. Я скорее имела в виду покинутое
Микулицынское жилище.
— Все это правда. Спасибо за чуткость. Но погоди минуту. Я все время хочу спросить
и все забываю. Где Комаровский? Он еще тут или уже уехал? С моей ссоры с ним и после
того, как я спустил его с лестницы, я больше ничего о нем не слышал.
— Я тоже ничего не знаю. А Бог с ним. На что он тебе?
— Я все больше прихожу к мысли, что нам по разному надо было отнестись к его
предложению. Мы не в одинаковом положении. На твоем попечении дочь. Даже если бы ты
хотела разделить мою гибель, ты не вправе себе это позволить.
Но перейдем к Варыкину. Разумеется, забираться в эту одичалую глушь суровой зимой
без запасов, без сил, без надежд — безумие из безумий. Но давай и безумствовать, сердце
мое, если ничего, кроме безумства, нам не осталось. Унизимся еще раз. Выклянчим у
Анфима лошадь. Попросим у него, или даже не у него, а у состоящих под его начальством
спекулянтов, муки и картошки в некий, никакою верою не оправдываемый долг.
Уговорим его не сразу, не тотчас возмещать своим приездом оказанное нам
благодеяние, а приехать только к концу, когда лошадь понадобится ему обратно. Побудем
немного одни. Поедем, сердце мое. Сведем и спалим в неделю лесной косяк, которого
хватило бы на целый год более совестливого хозяйничанья.
И еще и еще раз. Прости меня за прорывающееся в моих словах смятение. Как бы мне
хотелось говорить с тобою без этого дурацкого пафоса! Но ведь у нас действительно нет
выбора.
Называй её как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери. Только
считанные дни в нашем распоряжении.
Воспользуемся же ими по своему. Потратим их на проводы жизни, на последнее
свидание перед разлукою. Простимся со всем, что нам было дорого, с нашими привычными
понятиями, с тем, как мы мечтали жить и чему нас учила совесть, простимся с надеждами,
простимся друг с другом. Скажем еще раз друг другу наши ночные тайные слова, великие и
тихие, как название азиатского океана.
Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел, под небом
войн и восстаний, ты когда-то под мирным небом детства так же поднялась у её начала.
Ты тогда ночью, гимназисткой последних классов в форме кофейного цвета, в
полутьме за номерной перегородкой, была совершенно тою же, как сейчас, и так же
ошеломляюще хороша.
Часто потом в жизни я пробовал определить и назвать тот свет очарования, который ты
заронила в меня тогда, тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук, которые с тех
пор растеклись по всему моему существованию и стали ключом проникновения во все
остальное на свете, благодаря тебе.
Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номерного углубления, я,
мальчик, ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы понял: эта
щупленькая, худенькая девочка заряжена, как электричеством, до предела, всей мыслимою
женственностью на свете. Если подойти к ней близко или дотронуться до нее пальцем, искра
озарит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетически
влекущейся, жалующейся тягой и печалью. Я весь наполнился блуждающими слезами, весь