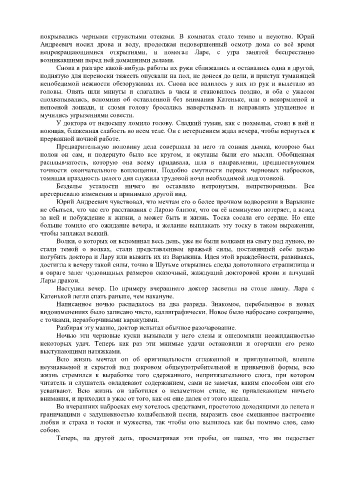Page 254 - Доктор Живаго
P. 254
покрывались черными струистыми отеками. В комнатах стало темно и неуютно. Юрий
Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со всё время
непрекращающимися открытиями, и помогал Ларе, с утра занятой беспрестанно
возникавшими перед ней домашними делами.
Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой,
поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей
непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из
головы. Опять шли минуты и слагались в часы и становилось поздно, и оба с ужасом
спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке, или о некормленой и
непоеной лошади, и сломя голову бросались наверстывать и исправлять упущенное и
мучились угрызениями совести.
У доктора от недосыпу ломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней и
ноющая, блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к
прерванной ночной работе.
Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которою был
полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная
расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении, предшествующем
точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков,
томящая праздность целого дня служила трудовой ночи необходимой подготовкой.
Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непретворенным. Все
претерпевало изменения и принимало другой вид.
Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Варыкине
не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он её неминуемо потеряет, а вслед
за ней и побуждение к жизни, а может быть и жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще
больше томило его ожидание вечера, и желание выплакать эту тоску в таком выражении,
чтобы заплакал всякий.
Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но
стали темой о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью
погубить доктора и Лару или выжить их из Варыкина. Идея этой враждебности, развиваясь,
достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы допотопного страшилища и
в овраге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий
Лары дракон.
Наступил вечер. По примеру вчерашнего доктор засветил на столе лампу. Лара с
Катенькой легли спать раньше, чем накануне.
Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое, перебеленное в новых
видоизменениях было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно,
с точками, неразборчивыми каракулями.
Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование.
Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью
некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко
выступающими натяжками.
Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне
неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю
жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором
читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его
усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего
внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала.
Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и
граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение
любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само
собою.
Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает