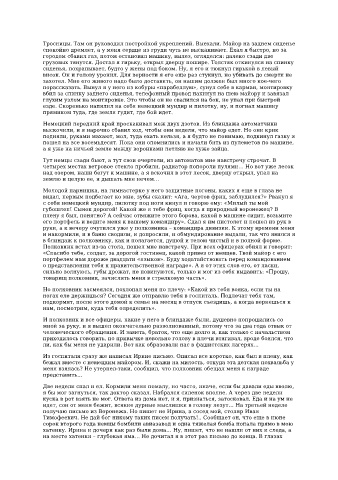Page 399 - Донские рассказы
P. 399
Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье
спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за
городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две
грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку
сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый
висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не
захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего
порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку
вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал
глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой
езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину
прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.
Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики
выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик
подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и
пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине,
а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.
Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В
четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями… Но вот уже лесок
над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на
землю и целую ее, и дышать мне нечем…
Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не
видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я
с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой
губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В
плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите
его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в
руки, а к вечеру очутился уже у полковника – командира дивизии. К этому времени меня
и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я
в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме.
Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит:
«Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его
портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием
о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки,
сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу,
товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».
Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на
ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там,
подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к
нам, посмотрим, куда тебя определить».
И полковник и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со
мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от
человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством
приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что
ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях…
Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как
бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у
меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде
представить…
Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю,
я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели
куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не
идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут… На третьей неделе
получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван
Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне
сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою
хатенку. Ирина и дочери как раз были дома… Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а
на месте хатенки – глубокая яма… Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах