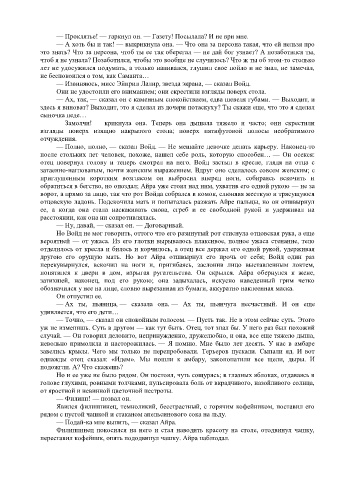Page 145 - Собрание рассказов
P. 145
— Проклятье! — гаркнул он. — Газету! Посылала? И не ври мне.
— А хоть бы и так! — выкрикнула она. — Что она за персона такая, что ей нельзя про
это знать? Что за персона, чтоб ты ее так оберегал — не дай бог узнает? А позаботился ты,
чтоб я не узнала? Позаботился, чтобы это вообще не случилось? Что ж ты об этом-то столько
лет не удосужился подумать, а только напивался, глушил свое пойло и не знал, не замечал,
не беспокоился о том, как Саманта…
— Извиняюсь, мисс Эйприл Лалир, звезда экрана, — сказал Войд.
Они не удостоили его вниманием; они скрестили взгляды поверх стола.
— Ах, так, — сказал он с каменным спокойствием, едва шевеля губами. — Выходит, и
здесь я виноват? Выходит, это я сделал из дочери потаскуху? Ты скажи еще, что это я сделал
сыночка педе…
— Замолчи! — крикнула она. Теперь она дышала тяжело и часто; они скрестили
взгляды поверх изящно накрытого стола; поверх пятифутовой полосы необратимого
отчуждения.
— Полно, полно, — сказал Войд. — Не мешайте девочке делать карьеру. Наконец-то
после стольких лет человек, похоже, нашел себе роль, которую способен… — Он осекся:
отец повернул голову и теперь смотрел на него. Войд застыл в кресле, глядя на отца с
затаенно-нагловатым, почти женским выражением. Вдруг оно сделалось совсем женским; с
приглушенным коротким возгласом он выбросил вперед ноги, собираясь вскочить и
обратиться в бегство, но опоздал; Айра уже стоял над ним, ухватив его одной рукою — не за
ворот, а прямо за лицо, так что рот Войда собрался в комок, слюнявя жесткую и трясущуюся
отцовскую ладонь. Подскочила мать и попыталась разжать Айре пальцы, но он отшвырнул
ее, а когда она стала наскакивать снова, сгреб и ее свободной рукой и удерживал на
расстоянии, как она ни сопротивлялась.
— Ну, давай, — сказал он. — Договаривай.
Но Войд не мог говорить, оттого что его разинутый рот стиснула отцовская рука, а еще
вероятней — от ужаса. Из его глотки вырывалось плаксивое, полное ужаса стенание, тело
отделилось от кресла и билось и корчилось, а отец все держал его одной рукой, удерживая
другою его орущую мать. Но вот Айра отшвырнул его прочь от себя; Войд один раз
перекувырнулся, вскочил на ноги и, пригибаясь, заслонив лицо выставленным локтем,
попятился к двери в дом, изрыгая ругательства. Он скрылся. Айра обернулся к жене,
затихшей, наконец, под его рукою; она задыхалась, искусно наведенный грим четко
обозначился у нее на лице, словно вырезанная из бумаги, аккуратно наклеенная маска.
Он отпустил ее.
— Ах ты, пьяница, — сказала она. — Ах ты, пьянчуга несчастный. И он еще
удивляется, что его дети…
— Точно, — сказал он спокойным голосом. — Пусть так. Не в этом сейчас суть. Этого
уж не изменишь. Суть в другом — как тут быть. Отец, тот знал бы. У него раз был похожий
случай. — Он говорил деловито, непринужденно, дружелюбно, и она, все еще тяжело дыша,
невольно примолкла и насторожилась. — Я помню. Мне было лет десять. У нас в амбаре
завелись крысы. Чего мы только не перепробовали. Терьеров пускали. Сыпали яд. И вот
однажды отец сказал: «Идем». Мы пошли к амбару, законопатили все щели, дыры. И
подожгли. А? Что скажешь?
Но и ее уже не было рядом. Он постоял, чуть сощурясь; в глазных яблоках, отдаваясь в
голове глухими, ровными толчками, пульсировала боль от вкрадчивого, назойливого солнца,
от яростной и невинной цветочной пестроты.
— Филипп! — позвал он.
Явился филиппинец, темноликий, бесстрастный, с горячим кофейником, поставил его
рядом с пустой чашкой и стаканом апельсинового сока на льду.
— Подай-ка мне выпить, — сказал Айра.
Филиппинец покосился на него и стал наводить красоту на столе, отодвинул чашку,
переставил кофейник, опять пододвинул чашку. Айра наблюдал.