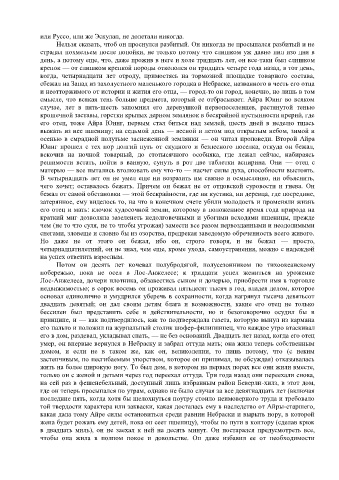Page 142 - Собрание рассказов
P. 142
или Руссо, или же Эскулап, не долетали никогда.
Нельзя сказать, чтоб он проснулся разбитый. Он никогда не просыпался разбитый и не
страдал похмельем после попойки, не только потому что слишком уж давно пил изо дня в
день, а потому еще, что, даже прожив в неге и холе тридцать лет, он все-таки был слишком
крепок — от слишком крепкой породы откололся он тридцать четыре года назад, в тот день,
когда, четырнадцати лет отроду, примостясь на тормозной площадке товарного состава,
сбежал на Запад из захолустного маленького городка в Небраске, названного в честь его отца
и неотторжимого от истории и жития его отца, — город-то он город, конечно, но лишь в том
смысле, что всякая тень больше предмета, который ее отбрасывает. Айра Юинг во всяком
случае, лет в пять-шесть запомнил его деревушкой первопоселенцев, растянутой тенью
крошечной заставы, горстки крытых дерном землянок в бескрайной пустынности прерий, где
его отец, тоже Айра Юинг, первым стал биться над землей, шесть дней в неделю тщась
выжать из нее пшеницу; на седьмой день — весной и летом под открытым небом, зимой и
осенью в смрадной полутьме заснеженной землянки — он читал проповеди. Второй Айра
Юинг прошел с тех пор долгий путь от скудного и безлесного поселка, откуда он бежал,
вскочив на ночной товарный, до стотысячного особняка, где лежал сейчас, набираясь
решимости встать, пойти в ванную, сунуть в рот две таблетки аспирина. Они — отец с
матерью — все пытались втолковать ему что-то — насчет силы духа, способности выстоять.
В четырнадцать лет он не умел еще ни возразить им связно и осмысленно, ни объяснить,
чего хочет; оставалось бежать. Причем он бежал не от отцовской суровости и гнева. Он
бежал от самой обстановки — этой бескрайности, где ни кустика, ни деревца, где посредине,
затерянное, ему виделось то, на что в конечном счете убили молодость и променяли жизнь
его отец и мать: клочок худосочной земли, которому в положенное время года природа на
краткий миг дозволяла зазеленеть недолговечными и убогими всходами пшеницы, прежде
чем (не то что суля, не то чтобы угрожая) замести все разом первозданными и неодолимыми
снегами, зловеще и словно бы из озорства, предрекая заведомую обреченность всего живого.
Но даже не от этого он бежал, ибо он, строго говоря, и не бежал — просто,
четырнадцатилетний, он не знал, чем еще, кроме ухода, самоустранения, можно с надеждой
на успех ответить взрослым.
Потом он десять лет кочевал полубродягой, полусезонником по тихоокеанскому
побережью, пока не осел в Лос-Анжелесе; к тридцати успел жениться на уроженке
Лос-Анжелеса, дочери плотника, обзавестись сыном и дочерью, приобрести имя в торговле
недвижимостью; в сорок восемь он проживал пятьдесят тысяч в год, владея делом, которое
основал единолично и умудрился уберечь в сохранности, когда нагрянул тысяча девятьсот
двадцать девятый; он дал своим детям блага и возможности, какие его отец не только
бессилен был представить себе в действительности, но и безоговорочно осудил бы в
принципе, и — как подтвердилось, как то подтверждала газета, которую вынул из кармана
его пальто и положил на журнальный столик шофер-филиппинец, что каждое утро втаскивал
его в дом, раздевал, укладывал спать, — не без оснований. Двадцать лет назад, когда его отец
умер, он впервые вернулся в Небраску и забрал оттуда мать; она жила теперь собственным
домом, и если не в таком же, как он, великолепии, то лишь потому, что (с неким
застенчивым, но несгибаемым упорством, которое он принимал, не обсуждая) отказывалась
жить на более широкую ногу. То был дом, в котором на первых порах все они жили вместе,
только он с женой и детьми через год переехал оттуда. Три года назад они переехали снова,
на сей раз в фешенебельный, доступный лишь избранным район Беверли-хилз, в этот дом,
где он теперь просыпался по утрам, однако не было случая за все девятнадцать лет (включая
последние пять, когда хотя бы шелохнуться поутру стоило неимоверного труда и требовало
той твердости характера или закваски, какая досталась ему в наследство от Айры-старшего,
какая дала тому Айре силы остановиться среди равнин Небраски и вырыть нору, в которой
жена будет рожать ему детей, пока он сеет пшеницу), чтобы по пути в контору (сделав крюк
в двадцать миль), он не заехал к ней на десять минут. Он постарался предусмотреть все,
чтобы она жила в полном покое и довольстве. Он даже избавил ее от необходимости