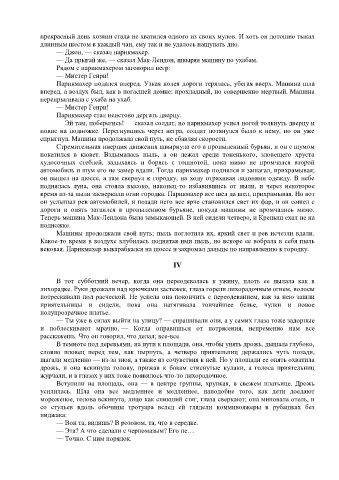Page 37 - Собрание рассказов
P. 37
прекрасный день хозяин стада не хватился одного из своих мулов. И хоть он дотошно тыкал
длинным шестом в каждый чан, ему так и не удалось нащупать дно.
— Джон, — сказал парикмахер.
— Да прыгай же, — сказал Мак-Лендон, швыряя машину по ухабам.
Рядом с парикмахером заговорил негр:
— Мистер Генри!
Парикмахер подался вперед. Узкая колея дороги терялась, убегая вверх. Машина шла
вперед, а воздух был, как в погасшей домне: прохладный, но совершенно мертвый. Машина
перепрыгивала с ухаба на ухаб.
— Мистер Генри!
Парикмахер стал неистово дергать дверцу.
— Эй там, поберегись! — сказал солдат, но парикмахер успел ногой толкнуть дверцу и
повис на подножке. Перегнувшись через негра, солдат потянулся было к нему, но он уже
спрыгнул. Машина продолжала свой путь, не сбавляя скорости.
Стремительная инерция движения швырнула его в пропыленный бурьян, и он с шумом
покатился в кювет. Вздымалась пыль, а он лежал среди тоненького, зловещего хруста
худосочных стеблей, задыхаясь и борясь с тошнотой, пока мимо не промчался второй
автомобиль и шум его не замер вдали. Тогда парикмахер поднялся и зашагал, прихрамывая;
он вышел на шоссе, а там свернул к городку, на ходу отряхивая ладонями одежду. В небе
поднялась луна, она стояла высоко, наконец-то избавившись от пыли, и через некоторое
время из-за пыли засверкали огни городка. Парикмахер все шел да шел, прихрамывая. Но вот
он услышал рев автомобилей, и позади него все ярче становился свет их фар, и он сошел с
дороги и опять затаился в пропыленном бурьяне, покуда машины не промчались мимо.
Теперь машина Мак-Лендона была замыкающей. В ней сидели четверо, и Крепыш ехал не на
подножке.
Машины продолжали свой путь; пыль поглотила их, яркий свет и рев исчезли вдали.
Какое-то время в воздухе клубилась поднятая ими пыль, но вскоре ее вобрала в себя пыль
вековая. Парикмахер выкарабкался на шоссе и захромал дальше по направлению к городку.
IV
В тот субботний вечер, когда она переодевалась к ужину, плоть ее пылала как в
лихорадке. Руки дрожали над крючками застежек, глаза горели лихорадочным огнем, волосы
потрескивали под расческой. Не успела она покончить с переодеванием, как за нею зашли
приятельницы и сидели, пока она натягивала тончайшее белье, чулки и новое
полупрозрачное платье.
— Ты уже в силах выйти на улицу? — спрашивали они, а у самих глаза тоже задорные
и поблескивают мрачно. — Когда оправишься от потрясения, непременно нам все
расскажешь. Что он говорил, что делал; все-все.
В темноте под деревьями, на пути к площади, она, чтобы унять дрожь, дышала глубоко,
словно пловец перед тем, как нырнуть, а четверо приятельниц держались чуть позади,
шагали медленно — из-за зноя, а также из сочувствия к ней. Но у площади ее опять охватила
дрожь, и она вскинула голову, прижав к бокам стиснутые кулаки, а голоса приятельниц
журчали, и в глазах у них тоже появилось что-то лихорадочное.
Вступили на площадь, она — в центре группы, хрупкая, в свежем платьице. Дрожь
усилилась. Шла она все медленнее и медленнее, наподобие того, как дети доедают
мороженое, голова вскинута, лицо как сникший стяг, глаза сверкают; она миновала отель, и
со стульев вдоль обочины тротуара вслед ей глядели коммивояжеры в рубашках без
пиджака:
— Вон та, видишь? В розовом, та, что в середке.
— Эта? А что сделали с черномазым? Его не…
— Точно. С ним порядок.