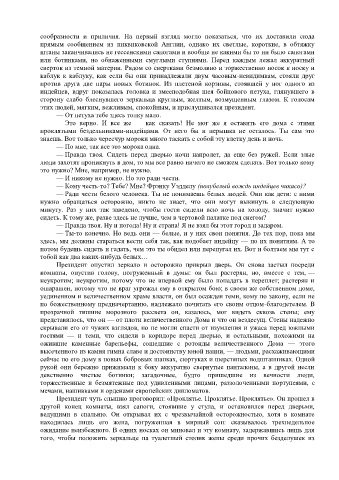Page 87 - Собрание рассказов
P. 87
сообразности и приличия. На первый взгляд могло показаться, что их доставили сюда
прямым сообщением из пиквиковской Англии, однако их светлые, короткие, в обтяжку
штаны заканчивались не гессенскими сапогами и вообще не какими бы то ни было сапогами
или ботинками, но обнаженными смуглыми ступнями. Перед каждым лежал аккуратный
сверток из темной материи. Рядом со свертками безмолвно и торжественно носок к носку и
каблук к каблуку, как если бы они принадлежали двум часовым-невидимкам, стояли друг
против друга две пары новых ботинок. Из плетеной корзины, стоявшей у ног одного из
индейцев, вдруг показалась головка и змееподобная шея бойцового петуха, глянувшего в
сторону слабо блеснувшего зеркальца круглым, желтым, возмущенным глазом. К голосам
этих людей, мягким, вежливым, спокойным, и прислушивался президент.
— От петуха тебе здесь толку мало.
— Это верно. И все же — как сказать! Не мог же я оставить его дома с этими
проклятыми бездельниками-индейцами. От него бы и перышка не осталось. Ты сам это
знаешь. Вот только чересчур мороки много таскать с собой эту клетку день и ночь.
— По мне, так все это морока одна.
— Правда твоя. Сидеть перед дверью ночи напролет, да еще без ружей. Если злые
люди захотят проникнуть в дом, то мы все равно ничего не сможем сделать. Вот только кому
это нужно? Мне, например, не нужно.
— И никому не нужно. Но это ради чести.
— Кому честь-то? Тебе? Мне? Фрэнку Уэдделу (полубелый вождь индейцев чикасо)?
— Ради чести белого человека. Ты не понимаешь белых людей. Они как дети: с ними
нужно обращаться осторожно, никто не знает, что они могут выкинуть в следующую
минуту. Раз у них так заведено, чтобы гости сидели всю ночь на холоду, значит нужно
сидеть. К тому же, разве здесь не лучше, чем в чертовой палатке под снегом?
— Правда твоя. Ну и погода! Ну и страна! Я не взял бы этот город и задаром.
— Ты-то конечно. Но ведь они — белые, и у них свои понятия. До тех пор, пока мы
здесь, мы должны стараться вести себя так, как подобает индейцу — по их понятиям. А то
потом будешь сидеть и гадать, чем это ты обидел или перепугал их. Вот и болтаем мы тут с
тобой как два каких-нибудь белых…
Президент опустил зеркало и осторожно прикрыл дверь. Он снова застыл посреди
комнаты, опустив голову, погруженный в думы: он был растерян, но, вместе с тем, —
неукротим; неукротим, потому что не впервой ему было попадать в переплет; растерян и
ошарашен, потому что не враг угрожал ему в открытом бою; в своем же собственном доме,
уединенном и величественном храме власти, он был осажден теми, кому по закону, если не
по божественному предначертанию, надлежало почитать его своим отцом-благодетелем. В
прозрачной тишине морозного рассвета он, казалось, мог видеть сквозь стены; ему
представилось, что он — от плоти величественного Дома и что он вездесущ. Стены надежно
скрывали его от чужих взглядов, но не могли спасти от изумления и ужаса перед южными
гостями — и теми, что сидели в коридоре перед дверью, и остальными, похожими на
ожившие каменные барельефы, сошедшие с ротонды величественного Дома — этого
высеченного из камня гимна славе и достоинству юной нации, — людьми, расхаживающими
сейчас по его дому в новых бобровых шапках, сюртуках и шерстяных подштанниках. Одной
рукой они бережно прижимали к боку аккуратно свернутые панталоны, а в другой несли
девственно чистые ботинки; загадочные, будто пришедшие из вечности люди,
торжественные и безмятежные под удивленными лицами, раззолоченными портупеями, с
мечами, нашивками и орденами европейских дипломатов.
Президент чуть слышно проговорил: «Проклятье. Проклятье. Проклятье». Он прошел в
другой конец комнаты, взял сапоги, стоявшие у стула, и остановился перед дверьми,
ведущими в спальню. Он открывал их с чрезвычайной осторожностью, хотя в комнате
находилась лишь его жена, погруженная в мирный сон: сказывалось трехнедельное
ожидание неизбежного. В одних носках он миновал и эту комнату, задержавшись лишь для
того, чтобы положить зеркальце на туалетный столик жены среди прочих безделушек из