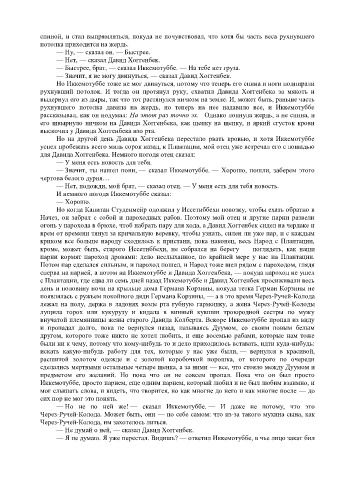Page 85 - Собрание рассказов
P. 85
спиной, и стал выпрямляться, покуда не почувствовал, что хотя бы часть веса рухнувшего
потолка приходится на жердь.
— Ну, — сказал он. — Быстрее.
— Нет, — сказал Давид Хоггенбек.
— Быстрее, брат, — сказал Иккемотуббе. — На тебе нет груза.
— Значит, я не могу двинуться, — сказал Давид Хоггенбек.
Но Иккемотуббе тоже не мог двинуться, потому что теперь его спина и ноги подпирали
рухнувший потолок. И тогда он протянул руку, схватил Давида Хоггенбека за мякоть и
выдернул его из дыры, так что тот растянулся ничком на земле. И, может быть, раньше часть
рухнувшего потолка давила на жердь, но теперь на нее надавило все, и Иккемотуббе
рассказывал, как он подумал: На этот раз точно эх. Однако лопнула жердь, а не спина, и
его швырнуло ничком на Давида Хоггенбека, как щепку на щепку, и яркий сгусток крови
выскочил у Давида Хоггенбека изо рта.
Но на другой день Давида Хоггенбека перестало рвать кровью, и хотя Иккемотуббе
успел пробежать всего миль сорок назад, к Плантации, мой отец уже встречал его с лошадью
для Давида Хоггенбека. Немного погодя отец сказал:
— У меня есть новость для тебя.
— Значит, ты нашел пони, — сказал Иккемотуббе. — Хорошо, пошли, заберем этого
чертова белого дурня…
— Нет, подожди, мой брат, — сказал отец. — У меня есть для тебя новость.
И немного погодя Иккемотуббе сказал:
— Хорошо.
Но когда Капитан Студенмейр одолжил у Иссетиббехи повозку, чтобы ехать обратно в
Начез, он забрал с собой и пароходных рабов. Поэтому мой отец и другие парни развели
огонь у парохода в брюхе, чтоб набрать пару для хода, а Давид Хоггенбек сидел на чердаке и
врем от времени тянул за кричальную веревку, чтобы узнать, силен ли уже пар, и с каждым
криком все больше народу сходилось к пристани, пока наконец, весь Народ с Плантации,
кроме, может быть, старого Иссетиббехи, не собрался на берегу — поглядеть, как наши
парни кормят пароход дровами: дело неслыханное, по крайней мере у нас на Плантации.
Потом пар сделался сильным, и пароход пошел, и Народ тоже шел рядом с пароходом, глядя
сперва на парней, а потом на Иккемотуббе и Давида Хоггенбека, — покуда пароход не ушел
с Плантации, где едва ли семь дней назад Иккемотуббе и Давид Хоггенбек просиживали весь
день и половину ночи на крыльце дома Германа Корзины, покуда тетка Герман Корзины не
появлялась с ружьем покойного дяди Германа Корзины, — а в это время Через-Ручей-Колода
лежал на полу, держа в ладонях возле рта губную гармошку, а жена Через-Ручей-Колоды
лущила горох или кукурузу и кидала в винный кувшин троюродной сестры по мужу
внучатой племянницы жены старого Давида Колберта. Вскоре Иккемотуббе пропал из виду
и пропадал долго, пока не вернулся назад, называясь Дуумом, со своим новым белым
другом, которого тоже никто не хотел любить, и еще восемью рабами, которые нам тоже
были ни к чему, потому что кому-нибудь то и дело приходилось вставать, идти куда-нибудь:
искать какую-нибудь работу для тех, которые у нас уже были, — вернулся в красивой,
расшитой золотом одежде и с золотой коробочкой порошка, от которого по очереди
сделались мертвыми остальные четыре щенка, а за ними — все, что стояло между Дуумом и
предметом его желаний. Но пока что он не совсем пропал. Пока что он был просто
Иккемотуббе, просто парнем, еще одним парнем, который любил и не был любим взаимно, и
мог слышать слова, и видеть, что творится, но как многие до него и как многие после — до
сих пор не мог это понять.
— Но не по ней же! — сказал Иккемотуббе. — И даже не потому, что это
Через-Ручей-Колода. Может быть, они — по себе самом: что из-за такого мухина сына, как
Через-Ручей-Колода, им захотелось литься.
— Не думай о ней, — сказал Давид Хоггенбек.
— Я не думаю. Я уже перестал. Видишь? — ответил Иккемотуббе, в чье лицо закат бил