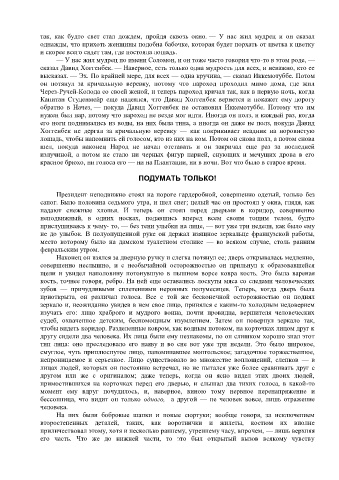Page 86 - Собрание рассказов
P. 86
так, как будто свет стал дождем, пройдя сквозь окно. — У нас жил мудрец и он сказал
однажды, что прихоть женщины подобна бабочке, которая будет порхать от цветка к цветку
и скорее всего сядет там, где постояла лошадь.
— У нас жил мудрец по имени Соломон, и он тоже часто говорил что-то в этом роде, —
сказал Давид Хоггенбек. — Наверное, есть только одна мудрость для всех, и неважно, кто ее
высказал. — Эх. По крайней мере, для всех — одна кручина, — сказал Иккемотуббе. Потом
он потянул за кричальную веревку, потому что пароход проходил мимо дома, где жил
Через-Ручей-Колода со своей женой, и теперь пароход кричал так, как в первую ночь, когда
Капитан Студенмейр еще надеялся, что Давид Хоггенбек вернется и покажет ему дорогу
обратно в Начез, — покуда Давид Хоггенбек не остановил Иккемотуббе. Потому что им
нужен был пар, потому что пароход не везде мог идти. Иногда он полз, и каждый раз, когда
его ноги поднимались из воды, на них была тина, а иногда он даже не полз, покуда Давид
Хоггенбек не дергал за кричальную веревку — как покрикивает всадник на норовистую
лошадь, чтобы напомнить ей голосом, кто из них на ком. Потом он снова полз, а потом снова
шел, покуда наконец Народ не начал отставать и он закричал еще раз за последней
излучиной, а потом не стало ни черных фигур парней, снующих и мечущих дрова в его
красное брюхо, ни голоса его — ни на Плантации, ни в ночи. Вот что было в старое время.
ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО!
Президент неподвижно стоял на пороге гардеробной, совершенно одетый, только без
сапог. Было половина седьмого утра, и шел снег; целый час он простоял у окна, глядя, как
падают снежные хлопья. И теперь он стоял перед дверьми в коридор, совершенно
неподвижный, в одних носках, подавшись вперед всем своим тощим телом, будто
прислушиваясь к чему- то, — без тени улыбки на лице, — вот уже три недели, как было ему
не до улыбок. В полуопущенной руке он держал изящное зеркальце французской работы,
место которому было на дамском туалетном столике — во всяком случае, столь ранним
февральским утром.
Наконец он взялся за дверную ручку и слегка потянул ее; дверь открывалась медленно,
совершенно неслышно, и с необычайной осторожностью он прильнул к образовавшейся
щели и увидел наполовину потонувшую в пышном ворсе ковра кость. Это была вареная
кость, точнее говоря, ребро. На ней еще оставались лоскуты мяса со следами человеческих
зубов — причудливыми сплетениями неровных полумесяцев. Теперь, когда дверь была
приоткрыта, он различал голоса. Все с той же бесконечной осторожностью он поднял
зеркало и, неожиданно увидев в нем свое лицо, принялся с каким-то холодным недоверием
изучать его: лицо храброго и мудрого воина, почти провидца, вершителя человеческих
судеб, охваченное детским, беспомощным изумлением. Затем он повернул зеркало так,
чтобы видеть коридор. Разделенные ковром, как водным потоком, на корточках лицом друг к
другу сидели два человека. Их лица были ему незнакомы, но он слишком хорошо знал этот
тип лица: оно преследовало его наяву и во сне вот уже три недели. Это было широкое,
смуглое, чуть приплюснутое лицо, напоминавшее монгольское; загадочное торжественное,
непроницаемое и серьезное. Лицо существовало во множестве воплощений, слепков — в
лицах людей, которых он постоянно встречал, но не пытался уже более сравнивать друг с
другом или же с оригиналом; даже теперь, когда он ясно видел этих двоих людей,
примостившихся на корточках перед его дверью, и слышал два тихих голоса, в какой-то
момент ему вдруг почудилось, и, наверное, виною тому нервное перенапряжение и
бессонница, что видит он только одного, а другой — не человек вовсе, лишь отражение
человека.
На них были бобровые шапки и новые сюртуки; вообще говоря, за исключением
второстепенных деталей, таких, как воротнички и жилеты, костюм их вполне
приличествовал этому, хотя и несколько раннему, утреннему часу, впрочем, — лишь верхняя
его часть. Что же до нижней части, то это был открытый вызов всякому чувству