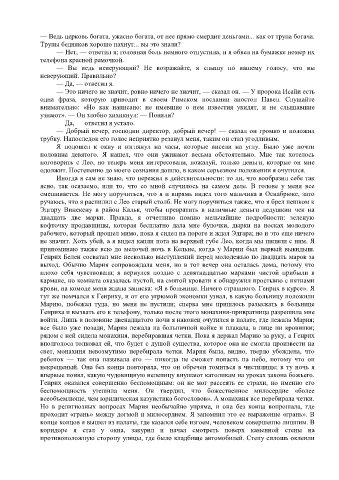Page 93 - Глазами клоуна
P. 93
— Ведь церковь богата, ужасно богата, от нее прямо смердит деньгами... как от трупа богача.
Трупы бедняков хорошо пахнут... вы это знали?
— Нет, — ответил я; головная боль немного отпустила, и я обвел на бумажке номер их
телефона красной рамочкой.
— Вы ведь неверующий? Не возражайте, я слышу по вашему голосу, что вы
неверующий. Правильно?
— Да, — ответил я.
— Это ничего не значит, ровно ничего не значит, — сказал он. — У пророка Исайи есть
одна фраза, которую приводит в своем Римском послании апостол Павел. Слушайте
внимательно: «Но как написано: не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие
узнают». — Он злобно хихикнул: — Поняли?
— Да, — ответил я устало.
— Добрый вечер, господин директор, добрый вечер! — сказал он громко и положил
трубку. Напоследок его голос неприятно резанул меня, таким он стал угодливым.
Я подошел к окну и взглянул на часы, которые висели на углу. Было уже почти
половина девятого. Я нашел, что они ужинают весьма обстоятельно. Мне так хотелось
поговорить с Лео, но теперь меня интересовали, пожалуй, только деньги, которые он мне
одолжит. Постепенно до моего сознания дошло, в каком серьезном положении я очутился.
Иногда я сам не знаю, что пережил в действительности: то ли, что вообразил себе так
ясно, так осязаемо, или то, что со мной случилось на самом деле. В голове у меня все
смешивается. Не могу поручиться, что я и впрямь видел того мальчика в Оснабрюке, зато
ручаюсь, что я распилил с Лео старый столб. Не могу поручиться также, что я брел пешком к
Эдгару Винекену в район Кальк, чтобы превратить в наличные деньги дедушкин чек на
двадцать две марки. Правда, я отчетливо помню мельчайшие подробности: зеленую
кофточку продавщицы, которая бесплатно дала мне булочки, дырки на носках молодого
рабочего, который прошел мимо, пока я сидел на пороге и ждал Эдгара; но и это еще ничего
не значит. Хоть убей, а я видел капли пота на верхней губе Лео, когда мы пилили с ним. Я
припоминаю также всю до мелочей ночь в Кельне, когда у Марии был первый выкидыш.
Генрих Белен сосватал мне несколько выступлений перед молодежью по двадцать марок за
выход. Обычно Мария сопровождала меня, но в тот вечер она осталась дома, потому что
плохо себя чувствовала; я вернулся поздно с девятнадцатью марками чистой прибыли в
кармане, но комната оказалась пустой, на смятой кровати я обнаружил простыню с пятнами
крови, на комоде меня ждала записка: «Я в больнице. Ничего страшного. Генрих в курсе». Я
тут же помчался к Генриху, и от его угрюмой экономки узнал, в какую больницу положили
Марию, побежал туда, но меня не пустили; сперва мне пришлось разыскать в больнице
Генриха и вызвать его к телефону, только после этого монахиня-привратница разрешила мне
войти. Лишь в половине двенадцатого ночи я наконец очутился в палате, где лежала Мария;
все было уже позади, Мария лежала на больничной койке и плакала, в лице ни кровинки;
рядом с ней сидела монахиня, перебиравшая четки. Пока я держал Марию за руку, а Генрих
вполголоса толковал ей, что будет с душой существа, которое она не смогла произвести на
свет, монахиня невозмутимо перебирала четки. Мария была, видно, твердо убеждена, что
ребенок — так она называла его — никогда не сможет попасть на небо, потому что он
некрещеный. Она без конца повторяла, что он обречен томиться в чистилище; в ту ночь я
впервые понял, какую чудовищную нелепицу внушают католикам на уроках закона божьего.
Генрих оказался совершенно беспомощным: он не мог рассеять ее страхи, но именно его
беспомощность утешила меня. Он твердил, что божественное милосердие «более
всеобъемлюще, чем юридическая казуистика богословов». А монахиня все перебирала четки.
Но в религиозных вопросах Мария необычайно упряма, и она без конца вопрошала, где
проходит «грань» между догмой и милосердием. Я запомнил это ее выражение «грань». В
конце концов я вышел из палаты, где казался себе изгоем, человеком совершенно лишним. В
коридоре я стал у окна, закурил и начал смотреть поверх каменной стены на
противоположную сторону улицы, где было кладбище автомобилей. Стену сплошь оклеили