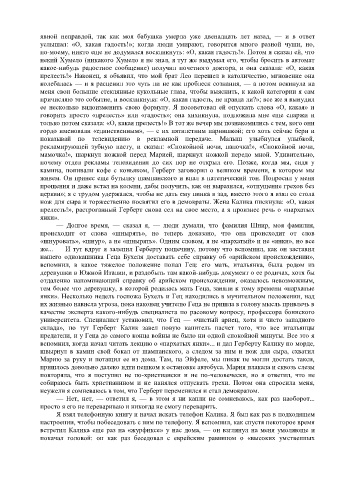Page 89 - Глазами клоуна
P. 89
явной неправдой, так как моя бабушка умерла уже двенадцать лет назад, — и в ответ
услышал: «О, какая гадость!»; когда люди умирают, говорится много разной чуши, но,
по-моему, никто еще не додумался воскликнуть: «О, какая гадость!». Потом я сказал ей, что
некий Хумело (никакого Хумело я не знал, я тут же выдумал его, чтобы бросить в автомат
какое-нибудь радостное сообщение) получил почетного доктора, и она сказала: «О, какая
прелесть!» Наконец, я объявил, что мой брат Лео перешел в католичество, мгновение она
колебалась — и я расценил это чуть ли не как проблеск сознания, — а потом вскинула на
меня свои большие стеклянные кукольные глаза, чтобы выяснить, к какой категории я сам
причисляю это событие, и воскликнула: «О, какая гадость, не правда ли?»; все же я вынудил
ее несколько видоизменить свою формулу. Я посоветовал ей опускать слова «О, какая» и
говорить просто «прелесть» или «гадость»; она хихикнула, подложила мне еще спаржи и
только потом сказала: «О, какая прелесть!» В тот же вечер мы познакомились с тем, кого они
гордо именовали «единственным», — с их пятилетним парнишкой; его хоть сейчас бери и
показывай по телевидению в рекламной передаче. Малыш улыбнулся улыбкой,
рекламирующей зубную пасту, и сказал: «Спокойной ночи, папочка!», «Спокойной ночи,
мамочка!», шаркнул ножкой перед Марией, шаркнул ножкой передо мной. Удивительно,
почему отдел рекламы телевидения до сих пор не открыл его. Позже, когда мы, сидя у
камина, попивали кофе с коньяком, Герберт заговорил о великом времени, в котором мы
живем. Он принес еще бутылку шампанского и впал в патетический тон. Попросил у меня
прощения и даже встал на колени, дабы получить, как он выразился, «отпущение грехов без
церкви»; я с трудом удержался, чтобы не дать ему пинка в зад, вместо этого я взял со стола
нож для сыра и торжественно посвятил его в демократы. Жена Калика пискнула: «О, какая
прелесть!», растроганный Герберт снова сел на свое место, а я произнес речь о «пархатых
янки».
— Долгое время, — сказал я, — люди думали, что фамилия Шнир, моя фамилия,
происходит от слова «шнырять», но теперь доказано, что она происходит от слов
«шнуровать», «шнур», а не «шнырять». Одним словом, я не «пархатый» и не «янки», но все
же... — И тут вдруг я залепил Герберту пощечину, потому что вспомнил, как он заставил
нашего однокашника Геца Бухеля доставать себе справку об «арийском происхождении»,
вспомнил, в какое тяжелое положение попал Гец: его мать, итальянка, была родом из
деревушки в Южной Италии, и раздобыть там какой-нибудь документ о ее родичах, хотя бы
отдаленно напоминающий справку об арийском происхождении, оказалось невозможным,
тем более что деревушку, в которой родилась мать Геца, заняли к тому времени «пархатые
янки». Несколько недель госпожа Бухель и Гец находились в мучительном положении, над
их жизнью нависла угроза, пока наконец учителю Геца не пришла в голову мысль привлечь в
качестве эксперта какого-нибудь специалиста по расовому вопросу, профессора боннского
университета. Специалист установил, что Гец — «чистый ариец, хотя и чисто западного
склада», но тут Герберт Калик завел новую канитель насчет того, что все итальянцы
предатели, и у Геца до самого конца войны не было ни одной спокойной минуты. Все это я
вспомнил, когда начал читать лекцию о «пархатых янки»... и дал Герберту Калику по морде,
швырнул в камин свой бокал от шампанского, а следом за ним и нож для сыра, схватил
Марию за руку и потащил ее из дома. Там, на Эйфеле, мы никак не могли достать такси,
пришлось довольно далеко идти пешком к остановке автобуса. Мария плакала и сквозь слезы
повторяла, что я поступил не по-христиански и не по-человечески, но я ответил, что не
собираюсь быть христианином и не нанялся отпускать грехи. Потом она спросила меня,
неужели я сомневаюсь в том, что Герберт переменился и стал демократом.
— Нет, нет, — ответил я, — в этом я ни капли не сомневаюсь, как раз наоборот...
просто я его не перевариваю и никогда не смогу переварить.
Я взял телефонную книгу и начал искать телефон Калика. Я был как раз в подходящем
настроении, чтобы побеседовать с ним по телефону. Я вспомнил, как спустя некоторое время
встретил Калика еще раз на «журфиксе» у нас дома, — он взглянул на меня умоляюще и
покачал головой: он как раз беседовал с еврейским раввином о «высоких умственных