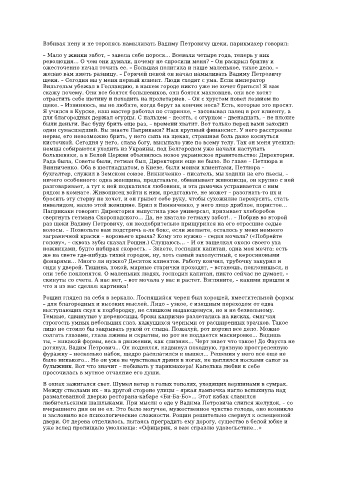Page 46 - Хождение по мукам. Хмурое утро
P. 46
Взбивая пену и не торопясь намыливать Вадиму Петровичу щеки, парикмахер говорил:
– Мало у жинки забот, – завела себе порося… Воевали четыре года, теперь у них
революция… О чем они думали, почему не спросили меня? – Он раскрыл бритву и
ожесточенно начал точить ее. – Большая политика и наше маленькое, тихое дело, –
желаю вам иметь разницу. – Горячей пеной он начал намыливать Вадиму Петровичу
щеки. – Сегодня вы у меня первый клиент. Люди сходят с ума. Если император
Вильгельм убежал в Голландию, в нашем городе никто уже не хочет бриться! Я вам
скажу почему. Они все боятся большевиков, они боятся махновцев, они все хотят
отрастить себе щетину и походить на пролетариев. – Он с хрустом повел лезвием по
щеке. – Извиняюсь, вы не любите, когда берут за кончик носа? Есть, которые это просят.
Я учился в Курске, наш мастер работал по старинке, – засовывал палец в рот клиенту, а
для благородных держал огурцы. С пальцем – десять, с огурцом – двенадцать, – не плохие
были деньги. Вас буду брить еще раз, – времени хватит. Вот только перед вами заходил
один сумасшедший. Вы знаете Паприкаки? Наш крупный финансист. У него расстроены
нервы, его невозможно брить, у него сыпь на щеках, страшная боль даже коснуться
кисточкой. Сегодня у него, слава богу, высыпало уже по всему телу. Так он меня утешил:
немцы собираются уходить из Украины, под Белгородом уже начали наступать
большевики, а в Белой Церкви объявилось новое украинское правительство: Директория.
Рада была, Советы были, гетман был, Директории еще не было. Во главе – Петлюра и
Винниченко. Оба в шестнадцатом, в Киеве, были моими клиентами, Петлюра –
бухгалтер, служил в Земском союзе. Винниченко – писатель, мы ходили на его пьесы, –
ничего особенного: одна женщина, представьте, обманывает живописца, он крупно с ней
разговаривает, а тут к ней подкатился любовник, и эта дамочка устраивается с ним
рядом в комнате. Живописец войти к ним, представьте, не может – разогнать-то их и
бросить эту стерву не хочет, и он грызет себе руку, чтобы сухожилие перекусить, стать
инвалидом, назло этой женщине. Брил я Винниченко, у него лицо дряблое, пористое…
Паприкаки говорит: Директория выпустила уже универсал, призывает хлеборобов
свергнуть гетмана Скоропадского… Да, не хватало гетману забот!.. – Побрив во второй
раз щеки Вадиму Петровичу, он неодобрительно прищурился на его отросшие седые
волосы. – Позвольте вам подстричь а-ля бокс, если желаете, осталось у меня немного
заграничной краски – вороньего крыла? Кому это нужно – седая мочала? («Побрейте
голову», – сквозь зубы сказал Рощин.) Слушаюсь… – И он защелкал около своего уха
ножницами, будто набирая скорость. – Знаете, господин капитан, одна моя мечта: есть
же на свете где-нибудь тихий городок, ну, хоть самый захолустный, с керосиновыми
фонарями… Много ли нужно? Десяток клиентов. Работу кончил, трубочку закурил и
сиди у дверей. Тишина, покой, мирные старички проходят, – встанешь, поклонишься, и
они тебе поклонятся. О маленьких людях, господин капитан, никто сейчас не думает, –
скинуты со счета. А нас нет, – вот мочала у вас и растет. Взгляните, – какими пришли и
что я из вас сделал: картинка!
Рощин глядел на себя в зеркало. Лоснящийся череп был хорошей, вместительной формы
– для благородных и высоких мыслей. Лицо – узкое, с изящным переходом от едва
выступающих скул к подбородку, не слишком выдающемуся, но и не безвольному.
Темные, сдвинутые у переносицы, брови капризно разлетались на висках, смягчая
строгость умных небольших глаз, кажущихся черными от расширенных зрачков. Такое
лицо не стоило бы закрывать рукой от стыда. Пожалуй, рот портил все дело. Можно
солгать глазами, глаза лживы и скрытны, но рот не поддается маскировке… Видишь
ты, – никакой формы, весь в движении, как слизняк… Черт знает что такое! До Фауста не
дотянул, Вадим Петрович… Он поднялся, надвинул походную, грязную простреленную
фуражку – несколько набок, щедро расплатился и вышел… Решения у него все еще не
было никакого… Но он уже не чувствовал дряни в ногах, не цеплялся носками сапог за
булыжник. Вот что значит – побывать у парикмахера! Капелька любви к себе
просочилась в мутное отчаяние его души.
В окнах зажигался свет. Шумел ветер в голых тополях, уходящих вершинами в сумрак.
Между стволами их – на другой стороне улицы – яркая лампочка нагло вспыхнула над
размалеванной дверью ресторана-кабаре «Би-Ба-Бо»… Этот кабак славился
любительскими шашлыками. При мысли о еде у Вадима Петровича слипся желудок, – со
вчерашнего дня он не ел. Это было могучее, мужественное чувство голода, оно возникло
и заслонило все психологические сложности. Рощин решительно свернул к освещенной
двери. От дерева отделилось, пытаясь преградить ему дорогу, существо в белой юбке и
уже вслед пропищало умоляюще: «Офицерик, я вам справлю удовольствие…»