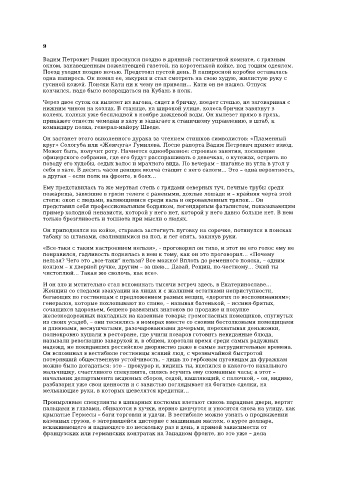Page 42 - Хождение по мукам. Хмурое утро
P. 42
9
Вадим Петрович Рощин проснулся поздно в дрянной гостиничной комнате, с грязным
окном, занавешенным пожелтевшей газетой, на коротенькой койке, под тощим одеялом.
Поезд уходил поздно ночью. Предстоял пустой день. В папиросной коробке оставалась
одна папироса. Он помял ее, закурил и стал смотреть на свою худую, жилистую руку с
гусиной кожей. Поиски Кати ни к чему не привели… Кати он не нашел. Отпуск
кончился, надо было возвращаться на Кубань в полк.
Через двое суток он вылезет из вагона, сядет в бричку, поедет степью, не заговаривая с
нижним чином на козлах. В станице, на широкой улице, колеса брички завязнут в
колеях, полных уже бесплодной в ноябре дождевой воды. Он вылезет прямо в грязь,
прикажет отнести чемодан в хату и зашагает к станичному управлению, в штаб, к
командиру полка, генерал-майору Шведе.
Он застанет этого выхоленного дурака за чтением стишков символистов: «Пламенный
круг» Сологуба или «Жемчуга» Гумилева. После рапорта Вадим Петрович примет взвод.
Может быть, получит роту. Начнется однообразное: строевые занятия, посещение
офицерского собрания, где его будут расспрашивать о девочках, о кутежах, острить по
поводу его худобы, седых волос и мрачного вида. По вечерам – шаганье из угла в угол у
себя в хате. В десять часов денщик молча стащит с него сапоги… Это – одна вероятность,
а другая – если полк на фронте, в боях…
Ему представилась та же мертвая степь с грядами северных туч, печные трубы среди
пожарища, завязшие в грязи телеги с ранеными, дохлые лошади и – крайняя черта этой
степи: окоп с людьми, валяющимися среди кала и окровавленных тряпок… Он
представил себя профессиональным бодряком, легендарным фаталистом, показывающим
пример холодной ненависти, которой у него нет, которой у него давно больше нет. В нем
только брезгливость и тошнота при мысли о людях.
Он приподнялся на койке, стараясь застегнуть пуговку на сорочке, потянулся в поисках
табаку за штанами, свалившимися на пол, и лег опять, закинув руки.
«Все-таки с таким настроением нельзя», – проговорил он тихо, и этот не его голос ему не
понравился, гадливость поднялась в нем к тому, как он это проговорил… «Почему
нельзя? Чего это „все-таки“ нельзя? Все можно! Вплоть до ременного пояска, – одним
концом – к дверной ручке, другим – за шею… Давай, Рощин, по-честному… Экий ты
чистоплюй… Такая же сволочь, как все».
И он зло и мстительно стал вспоминать тысячи встреч здесь, в Екатеринославе…
Женщин со следами эвакуации на лицах и с жалкими остатками неприступности,
бегающих по гостиницам с предложением разных вещиц, «дорогих по воспоминаниям»;
генералов, которые похлопывают по спине, – называя батенькой, – иссиня-бритых,
сочащихся здоровьем, бешено развязных знатоков по продаже и покупке
железнодорожных накладных на казенные товары; громогласных помещиков, спугнутых
из своих усадеб, – они теснились в номерах вместе со своими бестолковыми помещицами
и длинными, веснушчатыми, разочарованными дочерьми, перехватывая деньжонки,
полнокровно кушали в ресторане, где учили поваров готовить невиданные блюда,
называли революцию заварухой и, в общем, коротали время среди самых радужных
надежд, не покидавших российское дворянство даже в самые затруднительные времена.
Он вспоминал в вестибюле гостиницы всякий люд, с чрезвычайной быстротой
потерявший общественную устойчивость, – лишь по гербовым пуговицам да фуражкам
можно было догадаться: это – прокурор и, видишь ты, вцепился в какого-то нахального
мальчишку, счастливого спекулянта, силясь всучить ему сломанные часы; а этот –
начальник департамента акцизных сборов, седой, кашляющий, с палочкой, – он, видимо,
разбазарил уже свои ценности и с завистью поглядывает на богатые сделки, на
мелькающие руки, в которых шевелятся кредитки…
Пронырливые спекулянты в шикарных костюмах влетают сквозь парадные двери, вертят
пальцами и глазами, сбиваются в кучки, нервно шепчутся и уносятся снова на улицу, как
крылатые Гермесы – боги торговли и удачи. В вестибюле можно узнать о продвижении
казенных грузов, о затерявшейся цистерне с машинным маслом, о курсе доллара,
вскакивающего и падающего по нескольку раз в день, в прямой зависимости от
французских или германских контратак на Западном фронте, но это уже – дела