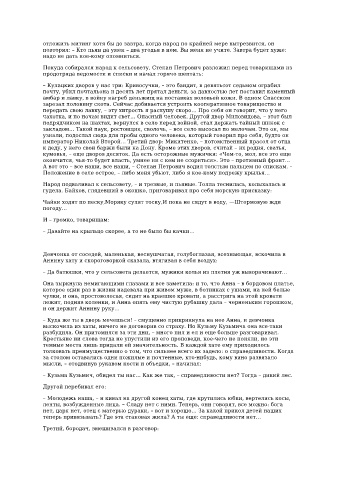Page 67 - Хождение по мукам. Хмурое утро
P. 67
отложить митинг хотя бы до завтра, когда народ по крайней мере вытрезвится, он
повторял: – Кто пьян да умен – два угодья в нем. Вы меня не учите. Завтра будет хуже:
надо не дать кое-кому опомниться.
Покуда собирался народ к сельсовету, Степан Петрович разложил перед товарищами из
продотряда ведомости и списки и начал горячо шептать:
– Кулацких дворов у нас три: Кривосучки, – это бандит, в девятьсот седьмом ограбил
почту, убил почтальона и десять лет прятал деньги, за давностью лет поставил каменный
амбар и лавку, в войну нагреб деньжищ на поставках воловьей кожи. В одном Спасском
зарезал половину скота. Сейчас добивается устроить кооперативное товарищество и
передать свою лавку, – эту хитрость я раскушу скоро… Про себя он говорит, что у него
чахотка, и по ночам видит свет… Опасный человек. Другой двор Миловидова, – этот был
подрядчиком на шахтах, вернулся в село перед войной, стал держать тайный шинок с
закладом… Такой паук, ростовщик, сволочь, – все село высосал по мелочам. Это он, мы
узнали, подослал сюда для пробы одного человека, который говорил про себя, будто он
император Николай Второй… Третий двор: Микитенко, – потомственный прасол от отца
к деду, у него свои баржи были на Дону. Кроме этих дворов, считай – их родня, сватья,
кумовья, – еще дворов десяток. Да есть осторожные мужички: «Чем-то, мол, все это еще
окончится, чья-то будет власть, умнее ни с кем не ссориться». Это – противный фронт…
А вот это – все наши, все наши, – Степан Петрович водил толстым пальцем по спискам. –
Положение в селе острое, – либо меня убьют, либо я кое-кому подрежу крылья…
Народ подваливал к сельсовету, – и трезвые, и пьяные. Толпа теснилась, колыхалась и
гудела. Байков, глядевший в окошко, приговаривал про себя морскую присказку:
Чайки ходят по песку,Моряку сулят тоску,И пока не сядут в воду, —Штормовую жди
погоду…
И – громко, товарищам:
– Давайте на крыльцо скорее, а то не было бы качки…
Девчонка от соседей, маленькая, веснушчатая, голубоглазая, всезнающая, вскочила в
Аннину хату и скороговоркой сказала, втягивая в себя воздух:
– Да батюшки, что у сельсовета делается, мужики колья из плетня уж выворачивают…
Она зыркнула немигающими глазами и все заметила: и то, что Анна – в бордовом платье,
которое один раз в жизни надевала при живом муже, в ботинках с ушами, на ней белые
чулки, и она, простоволосая, сидит на краешке кровати, а расстрига на этой кровати
лежит, подняв коленки, и Анна опять ему чистую рубашку дала – черненьким горошком,
и он держит Аннину руку…
– Куда же ты в дверь мечешься! – смущенно прикрикнула на нее Анна, и девчонка
выскочила из хаты, ничего не договорив со страху. Но Кузьму Кузьмича она все-таки
разбудила. Он притомился за эти дни, – много пил и ел и еще больше разговаривал.
Крестьяне ни слова тогда не упустили из его проповеди, кое-чего не поняли, но эти
темные места лишь придали ей значительность. В каждой хате ему приходилось
толковать преимущественно о том, что сильнее всего их задело: о справедливости. Когда
за столом оставались одни пожилые и почтенные, кто-нибудь, кому вино развязало
мысли, – отодвинув рукавом кости и объедки, – начинал:
– Кузьма Кузьмич, обидел ты нас… Как же так, – справедливости нет? Тогда – дикий лес.
Другой перебивал его:
– Молодежь наша, – и кивал на другой конец хаты, где крутились юбки, вертелись косы,
ленты, возбужденные лица. – Сладу нет с ними. Теперь, они говорят, все можно: бога
нет, царя нет, отец с матерью дураки, – вот и хорошо… За какой прикол детей наших
теперь привязывать? Где эта становая жила? А ты еще: справедливости нет…
Третий, бородач, вмешивался в разговор: