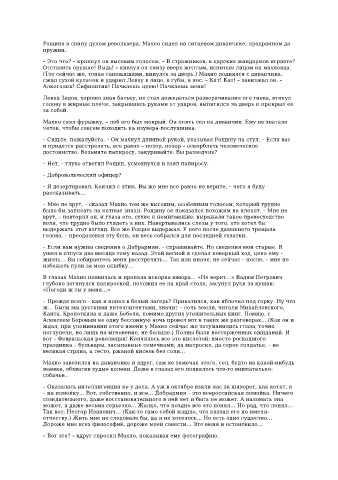Page 83 - Хождение по мукам. Хмурое утро
P. 83
Рощина в спину дулом револьвера. Махно сидел на ситцевом диванчике, продранном до
пружин.
– Это что? – крикнул он высоким голосом. – В стражников, в царских жандармов играете?
Отставить оружие! Выдь! – кивнул он снизу вверх желтым, испитым лицом на махновца.
(Тот сейчас же, топая сапожищами, кинулся за дверь.) Махно поднялся с диванчика,
сжал сухой кулачок и ударил Левку в лицо, в губы, в нос. – Кат! Кат! – завизжал он. –
Алкоголик! Сифилитик! Пачкаешь идею! Пачкаешь меня!
Левка Задов, хорошо зная батьку, не стал дожидаться разворачивания его гнева, втянул
голову в жирные плечи, закрывшись руками от ударов, выпятился за дверь и прикрыл ее
за собой.
Махно снял фуражку, – лоб его был мокрый. Он опять сел на диванчик. Ему не хватало
четок, чтобы совсем походить на изувера-послушника.
– Сядьте, пожалуйста. – Он махнул длинной рукой, указывая Рощину на стул. – Если вас
и придется расстрелять, все равно – позор, позор – оскорблять человеческое
достоинство. Возьмите папиросу, закуривайте. Вы разведчик?
– Нет, – глухо ответил Рощин, усмехнулся и взял папиросу.
– Добровольческий офицер?
– Я дезертировал. Кончил с этим. Вы же мне все равно не верите, – чего я буду
рассказывать…
– Мне не врут, – сказал Махно тем же высоким, особенным голосом, который трудно
было бы записать на нотные знаки. Рощину он показался похожим на клекот. – Мне не
врут, – повторил он, и глаза его, сухие и немигающие, выражали такое превосходство
воли, что трудно было глядеть в них. Навертывались слезы у того, кто хотел бы
выдержать этот взгляд. Все же Рощин выдержал. У него после давешнего трещала
голова, – преодолевая эту боль, он весь собрался для последней схватки.
– Если вам нужны сведения о Добрармии, – спрашивайте. Но сведения мои старые. Я
ушел в отпуск два месяца тому назад. Этой весной я сделал неверный ход, цена ему –
жизнь… Вы собираетесь меня расстрелять… Так или иначе, не сейчас – после, – мне не
избежать пули за мою ошибку…
В глазах Махно появилась и пропала искорка юмора… «Не верит…» Вадим Петрович
глубоко затянулся папироской, положил ее на край стола, засунул руки за кушак:
«Погоди ж ты у меня…»
– Прежде всего – как я попал в белый лагерь? Прикатился, как яблочко под горку. Ну что
ж… Были мы русскими интеллигентами, значит – соль земли, читали Михайловского,
Канта, Кропоткина и даже Бебеля, помимо других утешительных книг. Помню, с
Алексеем Боровым не одну бессонную ночь провел вот в таких же разговорах… (Как он и
ждал, при упоминании этого имени у Махно сейчас же затуманились глаза, точно
поглупели, но лишь на мгновение, не больше.) Полны были восторженных ожиданий. И
вот – Февральская революция! Кончилось все это кислотой: вместо роскошного
праздника – бульвары, засыпанные семечками, да матросня, да серое солдатье, – не
великая страна, а тесто, ржаной кисель без соли…
Махно завозился на диванчике и вдруг, сам не замечая этого, сел, будто на какой-нибудь
маевке, обхватив худые колени. Даже в глазах его появилось что-то внимательно-
собачье..
– Оказалась интеллигенция не у дела. А уж в октябре взяли нас за шиворот, как котят, и
– на помойку… Вот, собственно, и все… Добрармия – это всероссийская помойка. Ничего
созидательного, даже восстановительного в ней нет и быть не может. А наломать она
может, и даже весьма серьезно… Жалко, что поздно все это понял… Но рад, что понял…
Так вот, Нестор Иванович… (Как-то само собой вышло, что назвал его по имени-
отчеству.) Жить мне не следовало бы, да и не хотелось… Но есть одно существо…
Дороже мне всех философий, дороже моей совести… Это меня и остановило…
– Вот эта? – вдруг спросил Махно, показывая ему фотографию.