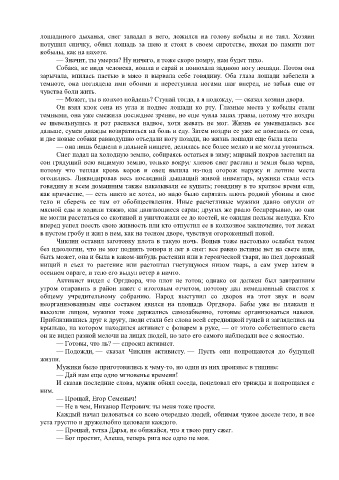Page 45 - Котлован
P. 45
лошадиного дыханья, снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин
потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот
кобылы, как на пахоте.
— Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо.
Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она
зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в
темноте, она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от
чувства боли жить.
— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду, — сказал хозяин двора.
Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали
темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри
ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все
дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена,
и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела
— она лишь беднела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться.
Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму; мирный покров застелил на
сон грядущий всю видимую землю, только вокруг хлевов снег растаял и земля была черна,
потому что теплая кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места
оголились. Ликвидировав весь последний дышащий живой инвентарь, мужики стали есть
говядину и всем домашним также наказывали ее кушать; говядину в то краткое время ели,
как причастие, — есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое
тело и сберечь ее там от обобществления. Иные расчетливые мужики давно опухли от
мясной еды и ходили тяжко, как двигающиеся сараи; других же рвало беспрерывно, но они
не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто
вперед успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал
в пустом гробу и жил в нем, как на тесном дворе, чувствуя огороженный покой.
Чиклин оставил заготовку плота в такую ночь. Вощев тоже настолько ослабел телом
без идеологии, что не мог поднять топора и лег в снег: все равно истины нет на свете или,
быть может, она и была в каком-нибудь растении или в героической твари, но шел дорожный
нищий и съел то растение или растоптал гнетущуюся низом тварь, а сам умер затем в
осеннем овраге, и тело его выдул ветер в ничто.
Активист видел с Оргдвора, что плот не готов; однако он должен был завтрашним
утром отправить в район пакет с итоговым отчетом, поэтому дал немедленный свисток к
общему учредительному собранию. Народ выступил со дворов на этот звук и всем
неорганизованным еще составом явился на площадь Оргдвора. Бабы уже не плакали и
высохли лицом, мужики тоже держались самозабвенно, готовые организоваться навеки.
Приблизившись друг к другу, люди стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на
крыльцо, на котором находился активист с фонарем в руке, — от этого собственного света
он не видел разной мелочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью.
— Готовы, что ль? — спросил активист.
— Подожди, — сказал Чиклин активисту. — Пусть они попрощаются до будущей
жизни.
Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес в тишине:
— Дай нам еще одно мгновенье времени!
И сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с
ним.
— Прощай, Егор Семеныч!
— Не в чем, Никанор Петрович: ты меня тоже прости.
Каждый начал целоваться со всею очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все
уста грустно и дружелюбно целовали каждого.
— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.
— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.