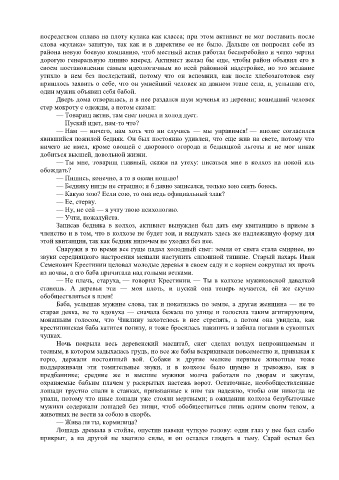Page 44 - Котлован
P. 44
посредством сплава на плоту кулака как класса; при этом активист не мог поставить после
слова «кулака» запятую, так как и в директиве ее не было. Дальше он попросил себе из
района новую боевую компанию, чтоб местный актив работал бесперебойно и четко чертил
дорогую генеральную линию вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в
своем постановлении самым идеологичным во всей районной надстройке, но это желание
утихло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как после хлебозаготовок ему
пришлось заявить о себе, что он умнейший человек на данном этапе села, и, услышав его,
один мужик объявил себя бабой.
Дверь дома отворилась, и в нее раздался шум мученья из деревни; вошедший человек
стер мокроту с одежды, а потом сказал:
— Товарищ актив, там снег пошел и холод дует.
— Пускай идет, нам-то что?
— Нам — ничего, нам хоть что ни случись — мы управимся! — вполне согласился
явившийся пожилой бедняк. Он был постоянно удивлен, что еще жив на свете, потому что
ничего не имел, кроме овощей с дворового огорода и бедняцкой льготы и не мог никак
добиться высшей, довольной жизни.
— Ты мне, товарищ главный, скажи на утеху: писаться мне в колхоз на покой иль
обождать?
— Пишись, конечно, а то в океан пошлю!
— Бедняку нигде не страшно; я б давно записался, только зою сеять боюсь.
— Какую зою? Если сою, то она ведь официальный злак?
— Ее, стерву.
— Ну, не сей — я учту твою психологию.
— Учти, пожалуйста.
Записав бедняка в колхоз, активист вынужден был дать ему квитанцию в приеме в
членство и в том, что в колхозе не будет зои, и выдумать здесь же надлежащую форму для
этой квитанции, так как бедняк нипочем не уходил без нее.
Снаружи в то время все гуще падал холодный снег: земля от снега стала смирнее, но
звуки середняцкого настроения мешали наступить сплошной тишине. Старый пахарь Иван
Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь
из почвы, а его баба причитала над голыми ветками.
— Не плачь, старуха, — говорил Крестинин. — Ты в колхозе мужиковской давалкой
станешь. А деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно
обобществляться в плен!
Баба, услышав мужние слова, так и покатилась по земле, а другая женщина — не то
старая девка, не то вдовуха — сначала бежала по улице и голосила таким агитирующим,
монашьим голосом, что Чиклину захотелось в нее стрелять, а потом она увидела, как
крестининская баба катится понизу, и тоже бросилась навзничь и забила ногами в суконных
чулках.
Ночь покрыла весь деревенский масштаб, снег сделал воздух непроницаемым и
тесным, в котором задыхалась грудь, но все же бабы вскрикивали повсеместно и, привыкая к
горю, держали постоянный вой. Собаки и другие мелкие нервные животные тоже
поддерживали эти томительные звуки, и в колхозе было шумно и тревожно, как в
предбаннике; средние же и высшие мужики молча работали по дворам и закутам,
охраняемые бабьим плачем у раскрытых настежь ворот. Остаточные, необобществленные
лошади грустно спали в станках, привязанные к ним так надежно, чтобы они никогда не
упали, потому что иные лошади уже стояли мертвыми; в ожидании колхоза безубыточные
мужики содержали лошадей без пищи, чтоб обобществиться лишь одним своим телом, а
животных не вести за собою в скорбь.
— Жива ли ты, кормилица?
Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову: один глаз у нее был слабо
прикрыт, а на другой не хватило силы, и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без