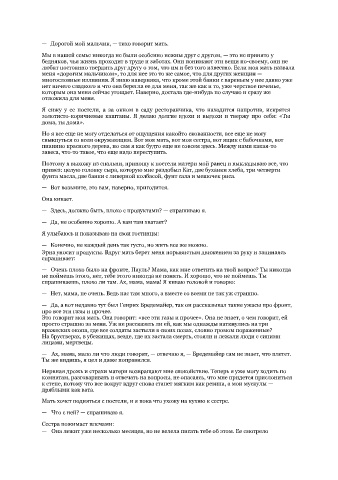Page 60 - На западном фронте без перемен
P. 60
— Дорогой мой мальчик, — тихо говорит мать.
Мы в нашей семье никогда не были особенно нежны друг с другом, — это не принято у
бедняков, чья жизнь проходит в труде и заботах. Они понимают эти вещи по-своему, они не
любят постоянно твердить друг другу о том, что им и без того известно. Если моя мать назвала
меня «дорогим мальчиком», то для нее это то же самое, что для других женщин —
многословные излияния. Я знаю наверняка, что кроме этой банки с вареньем у нее давно уже
нет ничего сладкого и что она берегла ее для меня, так же как и то, уже черствое печенье,
которым она меня сейчас угощает. Наверно, достала где-нибудь по случаю и сразу же
отложила для меня.
Я сижу у ее постели, а за окном в саду ресторанчика, что находится напротив, искрятся
золотисто-коричневые каштаны. Я делаю долгие вдохи и выдохи и твержу про себя: «Ты
дома, ты дома».
Но я все еще не могу отделаться от ощущения какойто скованности, все еще не могу
свыкнуться со всем окружающим. Вот моя мать, вот моя сестра, вот ящик с бабочками, вот
пианино красного дерева, но сам я как будто еще не совсем здесь. Между нами какая-то
завеса, что-то такое, что еще надо переступить.
Поэтому я выхожу из спальни, приношу к постели матери мой ранец и выкладываю все, что
привез: целую головку сыра, которую мне раздобыл Кат, две буханки хлеба, три четверти
фунта масла, две банки с ливерной колбасой, фунт сала и мешочек риса.
— Вот возьмите, это вам, наверно, пригодится.
Она кивает.
— Здесь, должно быть, плохо с продуктами? — спрашиваю я.
— Да, не особенно хорошо. А вам там хватает?
Я улыбаюсь и показываю на свои гостинцы:
— Конечно, не каждый день так густо, но жить все же можно.
Эрна уносит продукты. Вдруг мать берет меня порывистым движением за руку и запинаясь
спрашивает:
— Очень плохо было на фронте, Пауль? Мама, как мне ответить на твой вопрос? Ты никогда
не поймешь этого, нет, тебе этого никогда не понять. И хорошо, что не поймешь. Ты
спрашиваешь, плохо ли там. Ах, мама, мама! Я киваю головой и говорю:
— Нет, мама, не очень. Ведь нас там много, а вместе со всеми не так уж страшно.
— Да, а вот недавно тут был Генрих Бредемайер, так он рассказывал такие ужасы про фронт,
про все эти газы и прочее.
Это говорит моя мать. Она говорит: «все эти газы и прочее». Она не знает, о чем говорит, ей
просто страшно за меня. Уж не рассказать ли ей, как мы однажды наткнулись на три
вражеских окопа, где все солдаты застыли в своих позах, словно громом пораженные?
На брустверах, в убежищах, везде, где их застала смерть, стояли и лежали люди с синими
лицами, мертвецы.
— Ах, мама, мало ли что люди говорят, — отвечаю я, — Бредемайер сам не знает, что плетет.
Ты же видишь, я цел и даже поправился.
Нервная дрожь и страхи матери возвращают мне спокойствие. Теперь я уже могу ходить по
комнатам, разговаривать и отвечать на вопросы, не опасаясь, что мне придется прислониться
к стене, потому что все вокруг вдруг снова станет мягким как резина, а мои мускулы —
дряблыми как вата.
Мать хочет подняться с постели, и я пока что ухожу на кухню к сестре.
— Что с ней? — спрашиваю я.
Сестра пожимает плечами:
— Она лежит уже несколько месяцев, но не велела писать тебе об этом. Ее смотрело