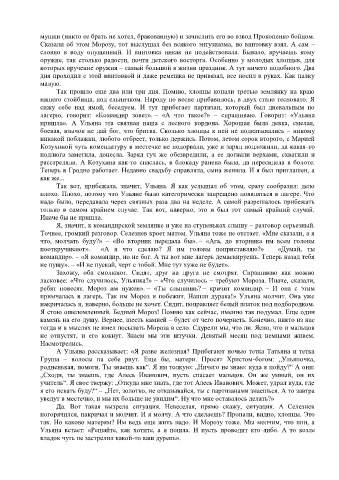Page 27 - Обелиск
P. 27
мушки (никто ее брать не хотел, бракованную) и зачислить его во взвод Прокопенко бойцом.
Сказали об этом Морозу, тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам –
словно в воду опущенный. И винтовка никак не подействовала. Бывало, вручаешь кому
оружие, так столько радости, почти детского восторга. Особенно у молодых хлопцев, для
которых вручение оружия – самый большой в жизни праздник. А тут ничего подобного. Два
дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал, все носил в руках. Как палку
малую.
Так прошло еще два или три дня. Помню, хлопцы копали третью землянку на краю
нашего стойбища, под ельничком. Народу по весне прибавилось, в двух стало тесновато. Я
сижу себе над ямой, беседуем. И тут прибегает партизан, который был дневальным по
лагерю, говорит: «Командир зовет». – «А что такое?» – спрашиваю. Говорит: «Ульяна
пришла». А Ульяна эта связная наша с лесного кордона. Хорошая была девка, смелая,
боевая, язычок не дай бог, что бритва. Сколько хлопцы к ней не подкатывались – никому
никакой поблажки, любого отбреет, только держись. Потом, летом сорок второго, с Марией
Козухиной чуть комендатуру в местечке не подорвали, уже и заряд подложили, да какая-то
подлюга заметила, донесла. Заряд туч же обезвредили, а ее догнали верхами, схватили и
расстреляли. А Козухина как-то спаслась, в блокаду ранена была, да пересидела в болоте.
Теперь в Гродно работает. Недавно свадьбу справляла, сына женила. И я был приглашен, а
как же...
Так вот, прибежала, значит, Ульяна. Я как услышал об этом, сразу сообразил: дело
плохо. Плохо, потому что Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что
надо было, передавала через связных раза два на неделе. А самой разрешалось прибежать
только в самом крайнем случае. Так вот, наверно, это и был тот самый крайний случай.
Иначе бы не пришла.
Я, значит, к командирской землянке и уже на ступеньках слышу – разговор серьезный.
Точнее, громкий разговор. Селезнев кроет матом. Ульяна тоже не отстает. «Мне сказали, а я
что, молчать буду?» – «Во вторник передала бы». – «Ага, до вторника им всем головы
пооткручивают». – «А я что сделаю? Я им головы поприставляю?» – «Думай, ты
командир». – «Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя
не пущу». – «И не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет».
Захожу, оба смолкают. Сидят, друг на друга не смотрят. Спрашиваю как можно
ласковее: «Что случилось, Ульянка?» – «Что случилось – требуют Мороза. Иначе, сказали,
ребят повесят. Мороз им нужен». – «Ты слышишь? – кричит командир. – И она с этим
примчалась в лагерь. Так им Мороз и побежит. Нашли дурака!» Ульяна молчит. Она уже
накричалась и, наверно, больше не хочет. Сидит, поправляет белый платок под подбородком.
Я стою ошеломленный. Бедный Мороз! Помню как сейчас, именно так подумал. Еще один
камень на его душу. Вернее, шесть камней – будет от чего почернеть. Конечно, никто из нас
тогда и в мыслях не имел посылать Мороза в село. Сдурели мы, что ли. Ясно, что и мальцов
не отпустят, и его кокнут. Знаем мы эти штучки. Девятый месяц под немцами живем.
Насмотрелись.
А Ульяна рассказывает: «Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка
Груша – волосы на себе рвут. Еще бы, матери. Просят Христом-богом: „Ульяночка,
родненькая, помоги. Ты знаешь как“. Я им толкую: „Ничего не знаю: куда я пойду?“ А они:
„Сходи, ты знаешь, где Алесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он же умный, он их
учитель“. Я свое твержу: „Откуда мне знать, где тот Алесь Иванович. Может, удрал куда, где
я его искать буду?“ – „Нет, золотко, не отказывайся, ты с партизанами знаешься. А то завтра
уведут в местечко, и мы их больше не увидим“. Ну что мне оставалось делать?»
Да. Вот такая вызрела ситуация. Невеселая, прямо скажу, ситуация. А Селезнев
погорячился, накричал и молчит. И я молчу. А что сделаешь? Пропали, видно, хлопцы. Это
так. Но каково матерям? Им ведь еще жить надо. И Морозу тоже. Мы молчим, что пни, а
Ульяна встает: «Решайте, как хотите, а я пошла. И пусть проводит кто-либо. А то возле
кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень».