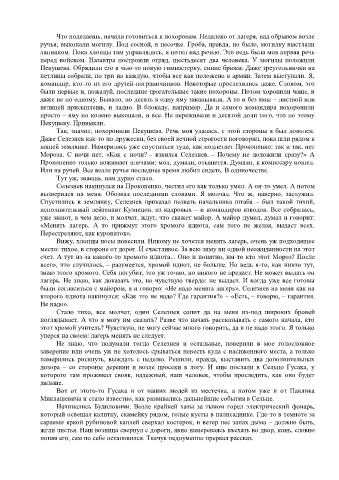Page 29 - Обелиск
P. 29
Что поделаешь, начали готовиться к похоронам. Недалеко от лагеря, над обрывом возле
ручья, выкопали могилу. Под сосной, в песочке. Гроба, правда, но было, могилку выстлали
лапником. Пока хлопцы там управлялись, я потел над речью. Это ведь была моя первая речь
перед войском. Назавтра построили отряд, шестьдесят два человека. У могилы положили
Пекушева. Обрядили его в чью-то новую гимнастерку, синие брюки. Даже треугольнички на
петлицы собрали, по три на каждую, чтобы все как положено в армии. Затем выступали. Я,
командир, кто-то из его друзей-пограничников. Некоторые прослезились даже. Словом, это
были первые и, пожалуй, последние трогательные такие похороны. Потом хоронили чаще, и
даже не по одному. Бывало, по десять в одну яму закапывали. А то и без ямы – листвой или
иглицей присыплешь, и ладно. В блокаду, например. Да и самого командира похоронили
просто – яму по колено выкопали, и все. Не переживали и десятой доли того, что по этому
Пекушеву. Привыкли.
Так, значит, похоронили Пекушева. Речь моя удалась, с этой стороны я был доволен.
Даже Селезнев как-то по-дружески, без своей вечной строгости поговорил, пока шли рядом к
нашей землянке. Намерились уже спуститься туда, как подлетает Прокопенко: так и так, нет
Мороза. С ночи нет. «Как с ночи? – взвился Селезнев. – Почему не доложили сразу?» А
Прокопенко только пожимает плечами: мол, думали, отыщется. Думали, к комиссару пошел.
Или на ручей. Все возле ручья последнее время любил сидеть. В одиночестве.
Тут уж, знаешь, нам дурно стало.
Селезнев накинулся на Прокопенко, честил его как только умел. А он-то умел. А потом
вызверился на меня. Обозвал последними словами. Я молчал. Что ж, наверно, заслужил.
Спустились в землянку, Селезнев приказал позвать начальника штаба – был такой тихий,
исполнительный лейтенант Кузнецов, из кадровых – и командиров взводов. Все собрались,
уже знают, в чем дело, и молчат, ждут, что скажет майор. А майор думал, думал и говорит:
«Менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, сам того не желая, выдаст всех.
Перестреляют, как куропаток».
Вижу, хлопцы носы повесили. Никому не хочется менять лагерь, очень уж подходящее
место: тихое, в стороне от дорог. И счастливое. За всю зиму ни одной неожиданности на этот
счет. А тут из-за какого-то хромого идиота... Оно и понятно, им-то кто этот Мороз? После
всего, что случилось, – разумеется, хромой идиот, не больше. Но ведь я-то, как никто тут,
знаю этого хромого. Себя погубит, это уж точно, но никого не предаст. Не может выдать он
лагерь. Не знаю, как доказать это, но чувствую твердо: не выдаст. И когда уже все готовы
были согласиться с майором, я и говорю: «Не надо менять лагерь». Селезнев на меня как на
второго идиота накинулся: «Как это не надо? Где гарантия?» – «Есть, – говорю, – гарантия.
Не надо».
Стало тихо, все молчат, один Селезнев сопит да на меня из-под широких бровей
поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала, кто
этот хромой учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и не надо этого. Я только
уперся на своем: лагерь менять не следует.
Не знаю, что подумали тогда Селезнев и остальные, поверили в мое голословное
заверение или очень уж не хотелось срываться невесть куда с насиженного места, а только
намерились рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных
дозора – со стороны деревни и возле просеки в логу. И еще послали в Сельцо Гусака, у
которого там проживал свояк, надежный, наш человек, чтобы проследить, как оно будет
дальше.
Вот от этого-то Гусака и от наших людей из местечка, а потом уже и от Павлика
Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в Сельце.
Начинались Будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь,
который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за
сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма – должно быть,
жгли листья. Наш возница свернул с дороги, явно намереваясь въехать во двор, конь, словно
поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ.