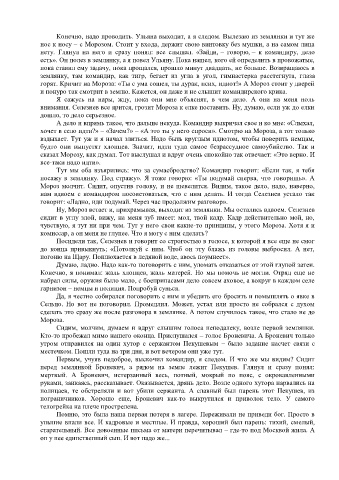Page 28 - Обелиск
P. 28
Конечно, надо проводить. Ульяна выходит, а я следом. Вылезаю из землянки и тут же
нос к носу – с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки, а на самом лица
нету. Глянул на него и сразу понял: все слышал. «Зайди, – говорю, – к командиру, дело
есть». Он полез в землянку, а я повел Ульяну. Пока нашел, кого ей определить в провожатые,
пока ставил ему задачу, пока прощался, прошло минут двадцать, не больше. Возвращаюсь в
землянку, там командир, как тигр, бегает из угла в угол, гимнастерка расстегнута, глаза
горят. Кричит на Мороза: «Ты с ума сошел, ты дурак, псих, идиот!» А Мороз стоит у дверей
и понуро так смотрит в землю. Кажется, он даже и не слышит командирского крика.
Я сажусь на нары, жду, пока они мне объяснят, в чем дело. А они на меня ноль
внимания. Селезнев все ярится, грозит Мороза к елке поставить. Ну, думаю, если уж до елки
дошло, то дело серьезное.
А дело и впрямь такое, что дальше некуда. Командир выкричал свое и ко мне: «Слыхал,
хочет в село идти?» – «Зачем?» – «А это ты у него спроси». Смотрю на Мороза, а тот только
вздыхает. Тут уж и я начал злиться. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам,
будто они выпустят хлопцев. Значит, идти туда самое безрассудное самоубийство. Так и
сказал Морозу, как думал. Тот выслушал и вдруг очень спокойно так отвечает: «Это верно. И
все-таки надо идти».
Тут мы оба взъярились: что за сумасбродство? Командир говорит: «Если так, я тебя
посажу в землянку. Под стражу». Я тоже говорю: «Ты подумай сперва, что говоришь». А
Мороз молчит. Сидит, опустив голову, и не шевелится. Видим, такое дело, надо, наверно,
нам вдвоем с командиром посоветоваться, что с ним делать. И тогда Селезнев устало так
говорит: «Ладно, иди подумай. Через час продолжим разговор».
Ну, Мороз встает и, прихрамывая, выходит из землянки. Мы остались вдвоем. Селезнев
сидит в углу злой, вижу, на меня зуб имеет: мол, твой кадр. Кадр действительно мой, но,
чувствую, я тут ни при чем. Тут у него свои какие-то принципы, у этого Мороза. Хотя я и
комиссар, а он меня не глупее. Что я могу с ним сделать?
Посидели так, Селезнев и говорит со строгостью в голосе, к которой я все еще не смог
до конца привыкнуть; «Потолкуй с ним. Чтоб он эту блажь из головы выбросил. А нет,
погоню на Щару. Поплюхается в ледяной воде, авось поумнеет».
Думаю, ладно. Надо как-то поговорить с ним, уломать отказаться от этой глупой затеи.
Конечно, я понимал: жаль хлопцев, жаль матерей. Но мы помочь не могли. Отряд еще не
набрал силы, оружия было мало, с боеприпасами дело совсем аховое, а вокруг в каждом селе
гарнизон – немцы и полиция. Попробуй сунься.
Да, я честно собирался поговорить с ним и убедить его бросить и помышлять о явке в
Сельцо. Но вот не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом
сделать это сразу же после разговора в землянке. А потом случилось такое, что стало не до
Мороза.
Сидим, молчим, думаем и вдруг слышим голоса неподалеку, возле первой землянки.
Кто-то пробежал мимо нашего оконца. Прислушался – голос Броневича. А Броневич только
утром отправился на один хутор с сержантом Пекушевым – было задание насчет связи с
местечком. Пошли туда на три дня, и вот вечером они уже тут.
Первым, учуяв недоброе, выскочил командир, я следом. И что же мы видим? Сидит
перед землянкой Броневич, а рядом на земле лежит Пекушев. Глянул и сразу понял:
мертвый. А Броневич, истерзанный весь, потный, мокрый по пояс, с окровавленными
руками, заикаясь, рассказывает. Оказывается, дрянь дело. Возле одного хутора нарвались на
полицаев, те обстреляли и вот убили сержанта. А славный был парень этот Пекушев, из
пограничников. Хорошо еще, Броневич как-то выкрутился и приволок тело. У самого
телогрейка на плече прострелена.
Помню, это была наша первая потеря в лагере. Переживали не приведи бог. Просто в
уныние впали все. И кадровые и местные. И правда, хороший был парень: тихий, смелый,
старательный. Все довоенные письма от матери перечитывал – где-то под Москвой жила. А
он у нее единственный сын. И вот надо же...