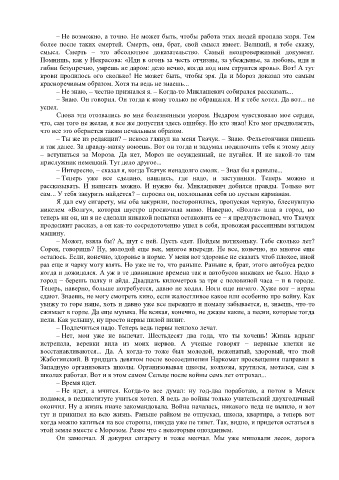Page 8 - Обелиск
P. 8
– Не возможно, а точно. Не может быть, чтобы работа этих людей пропала зазря. Тем
более после таких смертей. Смерть, она, брат, свой смысл имеет. Великий, я тебе скажу,
смысл. Смерть – это абсолютное доказательство. Самый неопровержимый документ.
Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь, иди и
гибни безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот! А тут
крови пролилось ого сколько! Не может быть, чтобы зря. Да и Мороз доказал это самым
красноречивым образом. Хотя ты ведь не знаешь...
– Не знаю, – честно признался я. – Когда-то Миклашевич собирался рассказать...
– Знаю. Он говорил. Он тогда к кому только не обращался. И к тебе хотел. Да вот... не
успел.
Слова эти отозвались во мне болезненным укором. Недаром чувствовало мое сердце,
что, сам того не желая, я все же допустил здесь ошибку. Но кто знал! Кто мог предполагать,
что все это обернется таким печальным образом.
– Ты же из редакции? – искоса глянул на меня Ткачук. – Знаю. Фельетончики пишешь
и так далее. За правду-матку воюешь. Вот он тогда и задумал подключить тебя к этому делу
– вступиться за Мороза. Да нет, Мороз не осужденный, не пугайся. И не какой-то там
прислужник немецкий. Тут дело другое...
– Интересно, – сказал я, когда Ткачук ненадолго смолк. – Знал бы я раньше...
– Теперь уже все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и
рассказывать. И написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Только вот
сам... У тебя закурить найдется? – спросил он, похлопывая себя по пустым карманам.
Я дал ему сигарету, мы оба закурили, посторонились, пропуская черную, блеснувшую
никелем «Волгу», которая шустро проскочила мимо. Наверно, «Волга» шла в город, но
теперь ни он, ни я не сделали никакой попытки остановить ее – я предчувствовал, что Ткачук
продолжит рассказ, а он как-то сосредоточенно ушел в себя, провожая рассеянным взглядом
машину.
– Может, взяла бы? А, шут с ней. Пусть едет. Пойдем потихоньку. Тебе сколько лет?
Сорок, говоришь? Ну, молодой еще век, многое впереди. Не все, конечно, но многое еще
осталось. Если, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать чтоб плохое, иной
раз еще и чарку могу взять. Но уже не то, что раньше. Раньше я, брат, этого автобуса редко
когда и дожидался. А уж в те давнишние времена так и автобусов никаких не было. Надо в
город – берешь палку и айда. Двадцать километров за три с половиной часа – и в городе.
Теперь, наверно, больше потребуется, давно не ходил. Ноги еще ничего. Хуже вот – нервы
сдают. Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливое какое или особенно про войну. Как
увижу то горе наше, хоть и давно уже все пережито и помалу забывается, и, знаешь, что-то
сжимает в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда
пели. Как услышу, ну просто нервы пилой пилит.
– Подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
– Нет, мои уже не вылечат. Шестьдесят два года, что ты хочешь! Жизнь вдрызг
истрепала, веревки вила из моих нервов. А ученые говорят – нервные клетки не
восстанавливаются... Да. А когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой
Жаботинский. В тридцать девятом после воссоединения Наркомат просвещения направил в
Западную организовать школы. Организовывал школы, колхозы, крутился, мотался, сам в
школах работал. Вот и в этом самом Сельце после войны семь лет отгрохал...
– Время идет.
– Не идет, а мчится. Когда-то все думал: ну год-два поработаю, а потом в Менск
подамся, в пединституте учиться хотел. Я ведь до войны только учительский двухгодичный
окончил. Ну а жизнь иначе закомандовала. Война началась, никакого педа не вышло, и вот
тут и прикипел на всю жизнь. Раньше райком не отпускал, школа, квартира, а теперь вот
когда можно катиться на все стороны, никуда уже не тянет. Так, видно, и придется остаться в
этой земле вместе с Морозом. Разве что с некоторым опозданием.
Он замолчал. Я докурил сигарету и тоже молчал. Мы уже миновали лесок, дорога