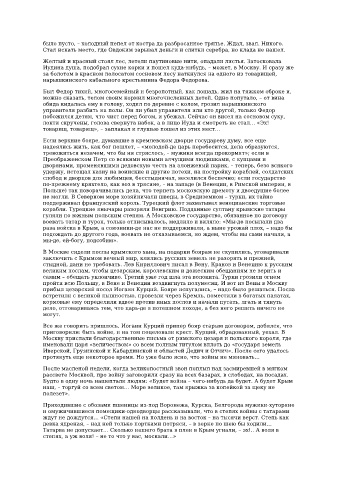Page 136 - Петр Первый
P. 136
было пусто, – холодный пепел от костра да разбросанное тряпье. Ждал, звал. Никого.
Стал искать место, где Овдоким зарывал деньги и слитки серебра, но клада не нашел.
Желтый и красный стоял лес, летели паутиновые нити, опадали листья. Затосковала
Иудина душа, подобрал сухие корки и пошел куда-нибудь, – может, в Москву. И сразу же
за болотом в красном полосатом сосновом лесу наткнулся на одного из товарищей,
нарышкинского кабального крестьянина Федора Федорова.
Был Федор тихий, многосемейный и безропотный, как лошадь, жил на тяжком оброке и,
можно сказать, телом своим кормил многочисленных детей. Одно попутало, – от вина
обида кидалась ему в голову, ходил по деревне с колом, грозил нарышкинского
управителя разбить на полы. Он ли убил управителя или кто другой, только Федор
побожился детям, что чист перед богом, и убежал. Сейчас он висел на сосновом суку,
локти скручены, голова свернута набок, а в лицо Иуда и смотреть не стал… «Эх!
товарищ, товарищ», – заплакал и глушью пошел из этих мест…
Если верхние бояре, думавшие в кремлевском дворце государеву думу, все еще
надеялись жить, как бог пошлет, – «молодой-де царь перебесится, дела образуются,
тревожиться незачем, что бы ни стряслось, – мужики всегда прокормят»; если в
Преображенском Петр со всякими новыми алчущими людишками, с купцами и
дворянами, променявшими дедовскую честь на алонжевый парик, – теперь, безо всякого
удержу, истощал казну на воинские и другие потехи, на постройку кораблей, солдатских
слобод и дворцов для любимцев, бесстыдничал, веселился беспечно; если государство
по-прежнему кряхтело, как воз в трясине, – на западе (в Венеции, в Римской империи, в
Польше) так поворачивались дела, что терпеть московскую дремоту и двоедушие более
не могли. В Северном море хозяйничали шведы, в Средиземном – турки, их тайно
поддерживал французский король. Турецкий флот захватывал венецианские торговые
корабли. Турецкие янычары разоряли Венгрию. Подданные султану крымские татары
гуляли по южным польским степям. А Московское государство, обязанное по договору
воевать татар и турок, только отписывалось, медлило и виляло: «Мы-де посылали два
раза войска в Крым, а союзники-де нас не поддерживали, а ныне урожай плох, – надо бы
подождать до другого года, воевать не отказываемся, но ждем, чтобы вы сами начали, а
мы-де, ей-богу, подсобим».
В Москве сидели послы крымского хана, на подарки боярам не скупились, уговаривали
заключить с Крымом вечный мир, клялись русских земель не разорять и прежней,
стыдной, дани не требовать. Лев Кириллович писал в Вену, Краков и Венецию к русским
великим послам, чтобы цезарским, королевским и дожеским обещаниям не верить и
самим – обещать уклончиво. Третий уже год шла эта волокита. Турки грозили огнем
пройти всю Польшу, в Вене и Венеции воздвигнуть полумесяц. И вот из Вены в Москву
прибыл цезарский посол Иоганн Курций. Бояре испугались, – надо было решаться. Посла
встретили с великой пышностью, провезли через Кремль, поместили в богатых палатах,
кормовые ему определили вдвое против иных послов и начали путать, лгать и тянуть
дело, отговариваясь тем, что царь-де в потешном походе, а без него решить ничего не
могут.
Все же говорить пришлось. Иоганн Курций припер бояр старым договором, добился, что
приговорили: быть войне, и на том поцеловали крест. Курций, обрадованный, уехал. В
Москву прислали благодарственные письма от римского цезаря и польского короля, где
именовали царя «величеством» со всем полным титулом вплоть до «государя земель
Иверской, Грузинской и Кабардинской и областей Дедич и Отчич». После сего удалось
протянуть еще некоторое время. Но уже было ясно, что войны не миновать…
После масленой недели, когда великопостный звон поплыл над засмиревшей в мягком
рассвете Москвой, про войну заговорили сразу на всех базарах, в слободах, на посадах.
Будто в одну ночь нашептали людям: «Будет война – чего-нибудь да будет. А будет Крым
наш, – торгуй со всем светом… Море великое, там ярыжка за копейкой за щеку не
полезет».
Приходившие с обозами пшеницы из-под Воронежа, Курска, Белгорода мужики-хуторяне
и омужичившиеся помещики-однодворцы рассказывали, что в степях войны с татарами
ждут не дождутся… «Степи нашей на полдень и на восток – на тысячи верст. Степь как
девка ядреная, – над ней только портками потряси, – в зерне по шею бы ходили…
Татарва не допускает… Сколько нашего брата в плен в Крым угнали, – эх!.. А воля в
степях, а уж воля! – не то что у вас, москали…»