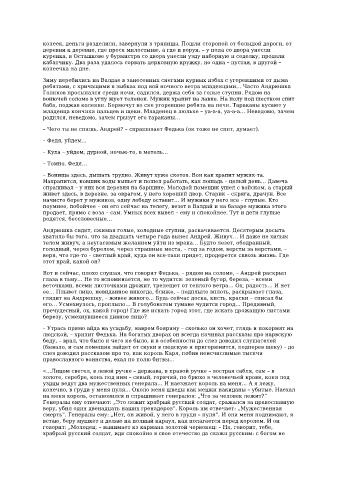Page 326 - Петр Первый
P. 326
копеек, деньги разделили, завернули в тряпицы. Пошли стороной от большой дороги, от
деревни к деревне, где прося милостыню, а где и воруя, – у попа со двора унесли
куренка, в Осташкове у бурмистра со двора унесли узду наборную и седелку, продали
кабатчику. Два раза удалось сорвать церковную кружку, но одна – пустая, в другой –
копеечка на дне.
Зиму перебились на Валдае в занесенных снегами курных избах с угоревшими от дыма
ребятами, с кричащими в зыбках под вой ночного ветра младенцами… Часто Андрюшка
Голиков просыпался среди ночи, садился, держа себя за голые ступни. Рядом на
вонючей соломе в углу жует теленок. Мужик храпит на лавке. На полу под шестком спит
баба, поджав коленки. Бормочут во сне угоревшие ребята на печи. Тараканы кусают у
младенца кончики пальцев и щеки. Младенец в люльке – уа-а-а, уа-а-а… Неведомо, зачем
родился, неведомо, зачем грызут его тараканы…
– Чего ты не спишь, Андрей? – спрашивает Федька (он тоже не спит, думает).
– Федя, уйдем…
– Куда – уйдем, дурной, ночью-то, в метель…
– Томно, Федя…
– Вонища здесь, дышать трудно. Живут хуже скотов. Вон как храпит мужик-та.
Нахрапится, ковшик воды выпьет и пошел работать, как лошадь – целый день… Давеча
спрашивал – у них вся деревня на барщине. Молодой помещик ушел с войском, а старый
живет здесь, в деревне, за оврагом, у него хороший двор. Старик – скряга, драчун. Все
начисто берет у мужиков, одну лебеду оставит… И мужики у него все – глупые. Кто
поумнее, побойчее – он его сейчас на телегу, везет в Валдай и на базаре мужика этого
продает, прямо с воза – сам. Умных всех вывел – ему и спокойнее. Тут и дети глупые
родятся, бессловесные…
Андрюшка сидит, сжимая голые, холодные ступни, раскачивается. Десятерым досыта
хватило бы того, что за двадцать четыре года вынес Андрей. Живуч… И даже не хилым
телом живуч, а неугасимым желанием уйти из мрака… Будто лезет, ободранный,
голодный, через бурелом, через страшные места, – год за годом, версты за верстами, –
веря, что где-то – светлый край, куда он все-таки придет, продерется сквозь жизнь. Где
этот край, какой он?
Вот и сейчас, плохо слушая, что говорит Федька, – рядом на соломе, – Андрей раскрыл
глаза в тьму… Не то вспоминается, не то чудится: зеленый бугор, береза, – всеми
веточками, всеми листочками дрожит, трепещет от теплого ветра… Ох, радость… И нет
ее… Плывет лицо, невиданное никогда, ближе, – подплыло вплоть, раскрывает глаза,
глядит на Андрюшку, – живее живого… Будь сейчас доска, кисть, краски – списал бы
его… Усмехнулось, проплыло… В голубоватом тумане чудится город… Предивный,
пречудесный, ох, какой город! Где же искать город этот, где искать дрожащую листами
березу, усмехнувшееся дивное лицо?
– Утрась прямо айда на усадьбу, наврем боярину – сколько он хочет, глядь и покормят на
людской, – хрипит Федька. На богатых дворах он всегда начинал рассказы про нарвскую
беду, – врал, что было и чего не было, и в особенности до слез доводил слушателей
(бывало, и сам помещик зайдет от скуки в людскую и пригорюнится, подперев щеку) – до
слез доводил рассказом про то, как король Карл, побив неисчислимые тысячи
православного воинства, ехал по полю битвы…
«…Лицом светел, в левой ручке – держава, в правой ручке – вострая сабля, сам – в
золоте, серебре, конь под ним – сивый, горячий, по брюхо в человечьей крови, коня под
уздцы ведут два мужественных генерала… И наезжает король на меня… А я лежу,
конечно, в груди у меня пуля… Около меня шведы как мешки накиданы – убитые. Наехал
на меня король, остановился и спрашивает генералов: „Что за человек лежит?“
Генералы ему отвечают: „Это лежит храбрый русский солдат, сражался за православную
веру, убил один двенадцать наших гренадеров“. Король им отвечает: „Мужественная
смерть“. Генералы ему: „Нет, он живой, у него в груди – пуля“. И они меня поднимают, я
встаю, беру мушкет и делаю на полный караул, как полагается перед королем. И он
говорит: „Молодец, – вынимает из кармана золотой червонец: – На, говорит, тебе,
храбрый русский солдат, иди спокойно в свое отечество да скажи русским: с богом не