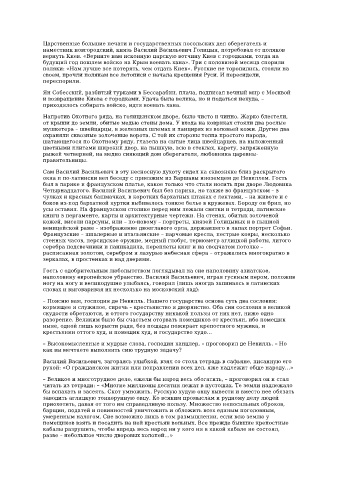Page 37 - Петр Первый
P. 37
Царственные большие печати и государственных посольских дел оберегатель и
наместник новгородский, князь Василий Васильевич Голицын, потребовал от поляков
вернуть Киев. «Верните нам исконную царскую вотчину Киев с городками, тогда на
будущий год пошлем войско на Крым воевать хана». Три с половиной месяца спорили
поляки: «Нам лучше все потерять, чем отдать Киев». Русские не торопились, стояли на
своем, прочли полякам все летописи с начала крещения Руси. И пересидели,
переспорили.
Ян Собесский, разбитый турками в Бессарабии, плача, подписал вечный мир с Москвой
и возвращение Киева с городками. Удача была велика, но и податься некуда, –
приходилось собирать войско, идти воевать хана.
Напротив Охотного ряда, на голицынском дворе, было чисто и чинно. Жарко блестели,
от крыши до земли, обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые
мушкетера – швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два
охраняли сквозные золоченые ворота. С той их стороны толпа простого народа,
шатающегося по Охотному ряду, глазела на сытые лица швейцарцев, на выложенный
цветными плитами широкий двор, на пышную, всю в стеклах, карету, запряженную
рыжей четверней, на медно сияющий дом оберегателя, любовника царевны-
правительницы.
Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого
окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем де Невиллем. Гость
был в парике и французском платье, какое только что стали носить при дворе Людовика
Четырнадцатого. Василий Васильевич был без парика, но также во французском – в
чулках и красных башмачках, в коротких бархатных штанах с лентами, – на животе и с
боков из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Бороду он брил, но
усы оставил. На французском столике перед ним лежали свитки и тетради, латинские
книги в пергаменте, карты и архитектурные чертежи. На стенах, обитых золоченой
кожей, висели парсуны, или – по-новому – портреты, князей Голицыных и в пышной
веницейской раме – изображение двоеглавого орла, державшего в лапах портрет Софьи.
Французские – шпалерные и итальянские – парчовые кресла, пестрые ковры, несколько
стенных часов, персидское оружие, медный глобус, термометр аглицкой работы, литого
серебра подсвечники и паникадила, переплеты книг и на сводчатом потолке –
расписанная золотом, серебром и лазурью небесная сфера – отражались многократно в
зеркалах, в простенках и над дверями.
Гость с одобрительным любопытством поглядывал на сие наполовину азиатское,
наполовину европейское убранство. Василий Васильевич, играя гусиным пером, положив
ногу на ногу и великодушно улыбаясь, говорил (лишь иногда запинаясь в латинских
словах и выговаривая их несколько на московский лад):
– Поясню вам, господин де Невилль. Нашего государства основа суть два сословия:
кормящее и служилое, сиречь – крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой
скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно
разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик
ныне, одной лишь корысти ради, без пощады пожирает крепостного мужика, и
крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо…
– Высокомысленные и мудрые слова, господин канцлер, – проговорил де Невилль. – Но
как вы мечтаете выполнить сию трудную задачу?
Василий Васильевич, загораясь улыбкой, взял со стола тетрадь в сафьяне, писанную его
рукой: «О гражданском житии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу…»
– Великое и многотрудное дело, ежели бы народ весь обогатить, – проговорил он и стал
читать из тетради: – «Многие миллионы десятин лежат в пустошах. Те земли надлежало
бы вспахать и засеять. Скот умножить. Русскую худую овцу вывести и вместо нее обязать
заводить аглицкую тонкорунную овцу. Ко всяким промыслам и рудному делу людей
приохотить, давая от того им справедливую пользу. Множество непосильных оброков,
барщин, податей и повинностей уничтожить и обложить всех единым поголовным,
умеренным налогом. Сие возможно лишь в том размышлении, если всю землю у
помещиков взять и посадить на ней крестьян вольных. Все прежде бывшие крепостные
кабалы разрушить, чтобы впредь весь народ ни у кого ни в какой кабале не состоял,
разве – небольшое число дворовых холопей…»