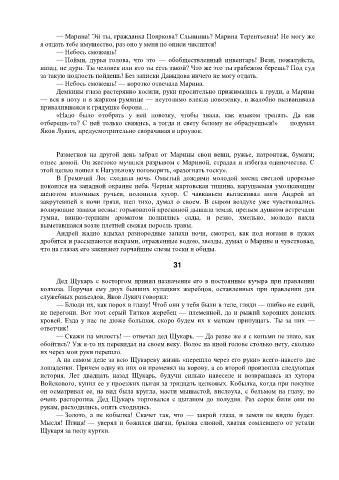Page 124 - Поднятая целина
P. 124
— Марина! Эй ты, гражданка Пояркова? Слышишь? Марина Терентьевна! Не могу же
я отдать тебе имущество, раз оно у меня по описи числится!
— Небось сможешь!
— Пойми, дурья голова, что это — обобществленный инвентарь! Вези, пожалуйста,
назад, не дури. Ты человек или кто ты есть такой? Что же это ты грабежом берешь? Под суд
за такую подлость пойдешь! Без записки Давыдова ничего не могу отдать.
— Небось сможешь! — коротко отвечала Марина.
Демкины глаза растерянно косили, руки просительно прижимались к груди, а Марина
— вся в поту и в жарком румянце — неутолимо влекла повозенку, и жалобно вызванивала
привалившаяся к грядушке борона…
«Надо было отобрать у ней повозку, чтобы знала, как языком трепать. Да как
отберешь-то? С ней только свяжись, а тогда и свету белому не обрадуешься!» — подумал
Яков Лукич, предусмотрительно сворачивая в проулок.
Разметнов на другой день забрал от Марины свои вещи, ружье, патронтаж, бумаги;
отнес домой. Он жестоко мучился разрывом с Мариной, страдал и избегал одиночества. С
этой целью пошел к Нагульнову поговорить, «разогнать тоску».
В Гремячий Лог сходила ночь. Омытый дождями молодой месяц светлой прорезью
покоился на западной окраине неба. Черная мартовская тишина, нарушаемая умолкающим
шепотом взломных ручьев, полонила хутор. С чавканьем вытаскивал ноги Андрей из
закрутевшей к ночи грязи, шел тихо, думал о своем. В сыром воздухе уже чувствовались
волнующие запахи весны: горьковатой пресниной дышала земля, прелым душком встречали
гумна, винно-терпким ароматом полнились сады, и резко, хмельно, молодо пахла
выметавшаяся возле плетней свежая поросль травы.
Андрей жадно вдыхал разнородные запахи ночи, смотрел, как под ногами в лужах
дробятся и рассыпаются искрами, отраженные водою, звезды, думал о Марине и чувствовал,
что на глазах его закипают горчайшие слезы тоски и обиды.
31
Дед Щукарь с восторгом принял назначение его в постоянные кучера при правлении
колхоза. Поручая ему двух бывших кулацких жеребцов, оставленных при правлении для
служебных разъездов, Яков Лукич говорил:
— Блюди их, как порох в глазу! Чтоб они у тебя были в теле, гляди — шибко не ездий,
не перегони. Вот этот серый Титков жеребец — племенной, да и рыжий хороших донских
кровей. Езда у нас не дюже большая, скоро будем их к маткам припущать. Ты за них —
ответчик!
— Скажи на милость! — отвечал дед Щукарь. — Да разве же я с коньми не знаю, как
обойтись? Уж я-то их перевидал на своем веку. Волос на иной голове столько нету, сколько
их через мои руки перешло.
А на самом деле за всю Щукареву жизнь «перешло через его руки» всего-навсего две
лошаденки. Причем одну из них он променял на корову, а со второй произошла следующая
история. Лет двадцать назад Щукарь, будучи сильно навеселе и возвращаясь из хутора
Войскового, купил ее у проезжих цыган за тридцать целковых. Кобылка, когда при покупке
он осматривал ее, на вид была кругла, масти мышастой, вислоуха, с бельмом на глазу, но
очень расторопна. Дед Щукарь торговался с цыганом до полудня. Раз сорок били они по
рукам, расходились, опять сходились.
— Золото, а не кобылка! Скачет так, что — закрой глаза, и земли не видно будет.
Мысля! Птица! — уверял и божился цыган, брызжа слюной, хватая сомлевшего от устали
Щукаря за полу куртки.