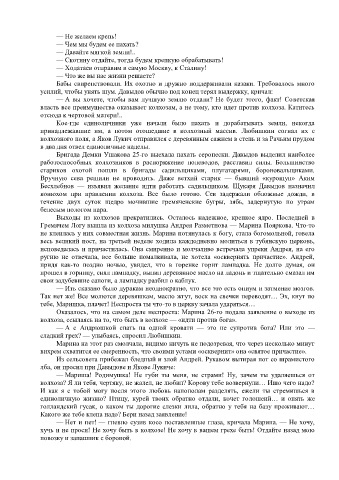Page 122 - Поднятая целина
P. 122
— Не желаем крепь!
— Чем мы будем ее пахать?
— Давайте мягкой земли!..
— Скотину отдайте, тогда будем крепкую обрабатывать!
— Ходатаев отправим в самую Москву, к Сталину!
— Что же вы нас жизни решаете?
Бабы свирепствовали. Их охотно и дружно поддерживали казаки. Требовалось много
усилий, чтобы унять шум. Давыдов обычно под конец терял выдержку, кричал:
— А вы хочете, чтобы вам лучшую землю отдали? Не будет этого, факт! Советская
власть все преимущества оказывает колхозам, а не тому, кто идет против колхоза. Катитесь
отсюда к чертовой матери!..
Кое-где единоличники уже начали было пахать и дорабатывать земли, некогда
принадлежавшие им, а потом отошедшие в колхозный массив. Любишкин согнал их с
колхозного поля, а Яков Лукич отправился с деревянным сажнем в степь и за Рачьим прудом
в два дня отвел единоличные наделы.
Бригада Демки Ушакова 25-го выехала пахать серопески. Давыдов выделил наиболее
работоспособных колхозников в распоряжение полеводов, расставил силы. Большинство
стариков охотой пошли в бригады садильщиками, плугатарями, бороновальщиками.
Вручную сева решили не проводить. Даже ветхий старик — бывший «курощуп» Аким
Бесхлебнов — изъявил желание идти работать садильщиком. Щукаря Давыдов назначил
конюхом при правлении колхоза. Все было готово. Сев задержали обложные дожди, в
течение двух суток щедро мочившие гремяченские бугры, зябь, задернутую по утрам
белесым пологом пара.
Выходы из колхозов прекратились. Осталось надежное, крепкое ядро. Последней в
Гремячем Логу вышла из колхоза милушка Андрея Разметнова — Марина Пояркова. Что-то
не клеилась у них совместная жизнь. Марина потянулась к богу, стала богомольной, говела
весь великий пост, на третьей неделе ходила каждодневно молиться в тубянскую церковь,
исповедалась и причастилась. Она смиренно и молчаливо встречала упреки Андрея, на его
ругню не отвечала, все больше помалкивала, не хотела «осквернять причастие». Андрей,
придя как-то поздно ночью, увидел, что в горенке горит лампадка. Не долго думая, он
прошел в горницу, снял лампадку, вылил деревянное масло на ладонь и тщательно смазал им
свои задубевшие сапоги, а лампадку разбил о каблук.
— Ить сказано было дуракам неоднократно, что все это есть опиум и затмение мозгов.
Так нет же! Все молются деревяшкам, масло жгут, воск на свечки переводят… Эх, кнут по
тебе, Маришка, плачет! Неспроста ты что-то в церкву зачала ударяться…
Оказалось, что на самом деле неспроста: Марина 26-го подала заявление о выходе из
колхоза, ссылаясь на то, что быть в колхозе — «идти против бога».
— А с Андрюшкой спать на одной кровати — это не супротив бога? Или это —
сладкий грех? — улыбаясь, спросил Любишкин.
Марина на этот раз смолчала, видимо ничуть не подозревая, что через несколько минут
вихрем схватится ее смеренность, что своими устами «осквернит» она «святое причастие».
Из сельсовета прибежал бледный и злой Андрей. Рукавом вытирая пот со шрамистого
лба, он просил при Давыдове и Якове Лукиче:
— Мариша! Родимушка! Не губи ты меня, не страми! Ну, зачем ты удаляешься от
колхоза? Я ли тебя, чертяку, не жалел, не любил? Корову тебе возвернули… Ишо чего надо?
И как я с тобой могу посля этого любовь напополам разделять, ежели ты стремишься в
единоличную жизню? Птицу, курей твоих обратно отдали, кочет голошеий… и опять же
голландский гусак, о каком ты дорогие слезки лила, обратно у тебя на базу проживают…
Какого же тебе клепа надо? Бери назад заявление!
— Нет и нет! — гневно сузив косо поставленные глаза, кричала Марина. — Не хочу,
хучь и не проси! Не хочу быть в колхозе! Не хочу в вашем грехе быть! Отдайте назад мою
повозку и запашник с бороной.