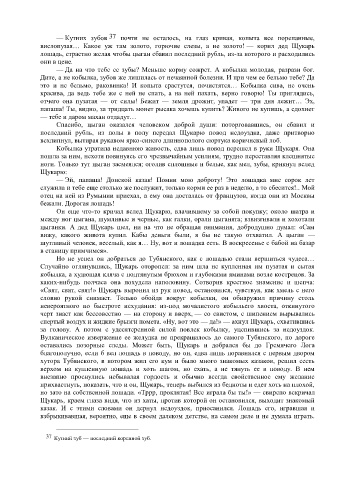Page 125 - Поднятая целина
P. 125
— Кутних зубов 37 почти не осталось, на глаз кривая, копыта все порепанные,
вислопузая… Какое уж там золото, горючие слезы, а не золото! — корил дед Щукарь
лошадь, страстно желая чтобы цыган сбавил последний рубль, из-за которого и расходились
они в цене.
— Да на что тебе ее зубы? Меньше корму сожрет. А кобылка молодая, разрази бог.
Дите, а не кобылка, зубов же лишилась от нечаянной болезни. И при чем ее бельмо тебе? Да
это и не бельмо, раковинка! И копыта срастутся, почистятся… Кобылка сива, не очень
красива, да ведь тебе же с ней не спать, а на ней пахать, верно говорю! Ты приглядись,
отчего она пузатая — от силы! Бежит — земля дрожит, упадет — три дня лежит… Эх,
папаша! Ты, видно, за тридцать монет рысака хочешь купить? Живого не купишь, а сдохнет
— тебе и даром махан отдадут…
Спасибо, цыган оказался человеком доброй души: поторговавшись, он сбавил и
последний рубль, из полы в полу передал Щукарю повод недоуздка, даже притворно
всхлипнул, вытирая рукавом ярко-синего длиннополого сюртука коричневый лоб.
Кобылка утратила недавнюю живость, едва лишь повод перешел в руки Щукаря. Она
пошла за ним, нехотя повинуясь его чрезвычайным усилиям, трудно переставляя клешнятые
ноги. Только тут цыган засмеялся; оголив сплошные и белые, как мел, зубы, крикнул вслед
Щукарю:
— Эй, папаша! Донской казак! Помни мою доброту! Это лошадка мне сорок лет
служила и тебе еще столько же послужит, только корми ее раз в неделю, а то сбесится!.. Мой
отец на ней из Румынии приехал, а ему она досталась от французов, когда они из Москвы
бежали. Дорогая лошадь!
Он еще что-то кричал вслед Щукарю, влачившему за собой покупку; около шатра и
между ног цыгана, шумливые и черные, как галки, орали цыганята; взвизгивали и хохотали
цыганки. А дед Щукарь шел, ни на что не обращая внимания, добродушно думал: «Сам
вижу, какого живота купил. Кабы деньги были, я бы не такую отхватил. А цыган —
шутливый человек, веселый, как я… Ну, вот и лошадка есть. В воскресенье с бабой на базар
в станицу примчимся».
Но не успел он добраться до Тубянского, как с лошадью стали вершиться чудеса…
Случайно оглянувшись, Щукарь оторопел: за ним шла не купленная им пузатая и сытая
кобылка, а худющая кляча с подтянутым брюхом и глубокими яминами возле кострецов. За
каких-нибудь полчаса она похудела наполовину. Сотворив крестное знамение и шепча:
«Свят, свят, свят!» Щукарь выронил из рук повод, остановился, чувствуя, как хмель с него
словно рукой снимает. Только обойдя вокруг кобылки, он обнаружил причину столь
невероятного по быстроте исхудания: из-под мочалистого кобыльего хвоста, откинутого
черт знает как бессовестно — на сторону и вверх, — со свистом, с шипением вырывались
спертый воздух и жидкие брызги помета. «Ну, вот это — да!» — ахнул Щукарь, схватившись
за голову. А потом с удесятеренной силой повлек кобылку, уцепившись за недоуздок.
Вулканическое извержение ее желудка не прекращалось до самого Тубянского, по дороге
оставались позорные следы. Может быть, Щукарь и добрался бы до Гремячего Лога
благополучно, если б вел лошадь в поводу, но он, едва лишь поравнялся с первым двором
хутора Тубянского, в котором жил его кум и было много знакомых казаков, решил сесть
верхом на купленную лошадь и хоть шагом, но ехать, а не тянуть ее в поводу. В нем
внезапно проснулись небывалая гордость и обычно всегда свойственное ему желание
прихвастнуть, показать, что и он, Щукарь, теперь выбился из бедноты и едет хоть на плохой,
но зато на собственной лошади. «Тррр, проклятая! Все играла бы ты!» — свирепо вскричал
Щукарь, краем глаза видя, что из хаты, против которой он остановился, выходит знакомый
казак. И с этими словами он дернул недоуздок, приосанился. Лошадь его, игравшая и
взбрыкивавшая, вероятно, еще в своем далеком детстве, на самом деле и не думала играть.
37 Кутний зуб — последний коренной зуб.