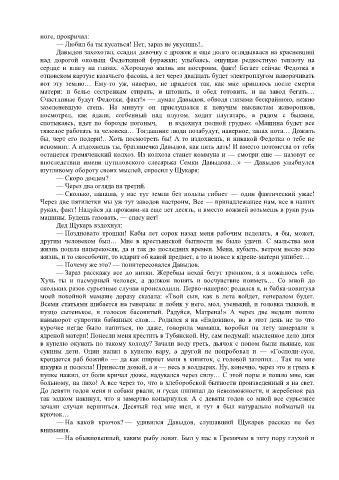Page 129 - Поднятая целина
P. 129
ноге, прокричал:
— Любил ба ты кусаться! Нет, зараз не укусишь!..
Давыдов захохотал, ссадил девочку с дрожек и еще долго оглядывался на красневший
над дорогой околыш Федоткиной фуражки; улыбаясь, ощущая редкостную теплоту на
сердце и влагу на глазах. «Хорошую жизнь им построим, факт! Бегает сейчас Федотка в
отцовском картузе казачьего фасона, а лет через двадцать будет электроплугом наворачивать
вот эту землю… Ему-то уж, наверно, не придется так, как мне пришлось после смерти
матери: и белье сестренкам стирать, и штопать, и обед готовить, и на завод бегать…
Счастливые будут Федотки, факт!» — думал Давыдов, обводя глазами бескрайнюю, нежно
зазеленевшую степь. На минуту он прислушался к певучим высвистам жаворонков,
посмотрел, как вдали, согбенный над плугом, ходит плугатарь, а рядом с быками,
спотыкаясь, идет по борозде погоныч, — и вздохнул полной грудью: «Машина будет все
тяжелое работать за человека… Тогдашние люди позабудут, наверное, запах пота… Дожить
бы, черт его подери!.. Хоть посмотреть бы! А то издохнешь, и никакой Федотка о тебе не
вспомнит. А издохнешь ты, братишечка Давыдов, как пить дать! И вместо потомства от тебя
останется гремяченский колхоз. Из колхоза станет коммуна и — смотри еще — назовут ее
впоследствии имени путиловского слесарька Семки Давыдова…» — Давыдов улыбнулся
шутливому обороту своих мыслей, спросил у Щукаря:
— Скоро доедем?
— Через два огляда на третий.
— Сколько, папаша, у вас тут земли без пользы гибнет — один фактический ужас!
Через две пятилетки мы уж тут заводов настроим, Все — принадлежащее нам, все в наших
руках, факт! Надуйся да проживи-ка еще лет десять, и вместо вожжей возьмешь в руки руль
машины. Будешь газовать, — спасу нет!
Дед Щукарь вздохнул:
— Поздновато трошки! Кабы лет сорок назад меня рабочим исделать, я бы, может,
другим человеком был… Мне в крестьянской бытности не было удачи. С мальства моя
жизнь пошла наперекосяк, да и так до последних времен. Меня, кубыть, ветром несло всю
жизнь, и то скособочит, то вдарит об какой предмет, а то и вовсе к ядрене-матери ушибет…
— Почему же это? — поинтересовался Давыдов.
— Зараз расскажу все до нитки. Жеребцы нехай бегут трюпком, а я пожалюсь тебе.
Хучь ты и пасмурный человек, а должон понять и восчувствие поиметь… Со мной до
скольких разов сурьезные случаи происходили. Перво-наперво: родился я, и бабка-повитуха
моей покойной мамаше доразу сказала: «Твой сын, как в лета войдет, генералом будет.
Всеми статьями шибается на генерала: и лобик у него, мол, узенький, и головка тыквой, и
пузцо сытенькое, и голосок басовитый. Радуйся, Матрена!» А через две недели пошло
навыворот супротив бабкиных слов… Родился я на «Евдокию», но в этот день не то что
курочке негде было напиться, но даже, говорила мамаша, воробьи на лету замерзали к
ядреной матери! Понесли меня крестить в Тубянской. Ну, сам подумай: мысленное дело дитя
в купелю окунать по такому холоду? Зачали воду греть, дьячок с попом были пьяные, как
сукины дети. Один налил в купелю вару, а другой не попробовал и — «Господи-сусе,
крещается раб божий» — да как ширнет меня в кипяток, с головой затопил… Так на мне
шкурка и полезла! Принесли домой, а я — весь в волдырях. Ну, конечно, через это и грызь в
пупке нажил, от боли кричал дюже, надувался через силу… С этой поры и пошло мне, как
больному, на лихо! А все через то, что в хлеборобской бытности произведенный я на свет.
До девяти годов меня и собаки рвали, и гусак шшипал до невозможности, и жеребенок раз
так задком накинул, что я замертво копырнулся. А с девяти годов со мной все сурьезнее
зачали случаи вершиться. Десятый год мне шел, и тут я был натурально пойматый на
крючок…
— На какой крючок? — удивился Давыдов, слушавший Щукарев рассказ не без
внимания.
— На обыкновенный, каким рыбу ловят. Был у нас в Гремячем в энту пору глухой и