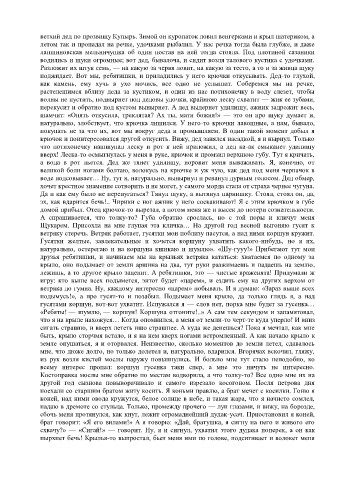Page 130 - Поднятая целина
P. 130
ветхий дед по прозвищу Купырь. Зимой он куропаток ловил венгерками и крыл шатериком, а
летом так и пропадал на речке, удочками рыбалил. У нас речка тогда была глубже, и даже
лапшиновская мельничушка об один постав на ней тогда стояла. Под плотиной сазаники
водились и щуки огромные; вот дед, бывалоча, и сидит возля талового кустика с удочками.
Разложит их штук семь, — на какую за червя ловит, на какую за тесто, а то и за живца щуку
поджидает. Вот мы, ребятишки, и приладились у него крючки откусывать. Дед-то глухой,
как камень, ему хучь в ухо мочись, все одно не услышит. Соберемся мы на речке,
растелешимся вблизу деда за кустиком, и один из нас потихонечку в воду слезет, чтобы
волны не пустить, поднырнет под дедовы удочки, крайнюю леску схватит — жик ее зубами,
перекусит и обратно под кустом вынырнет. А дед выдернет удилищу, ажник задрожит весь,
шамчит: «Опять откусила, треклятая? Ах ты, мати божия!» — это он про щуку думает и,
натурально, злобствует, что крючка лишился. У него-то крючки лавошные, а нам, бывало,
покупать не за что их, вот мы вокруг деда и промышляем. В один такой момент добыл я
крючок и поинтересовался другой откусить. Вижу, дед занялся насадкой, я и нырнул. Только
что потихонечку нашшупал леску и рот к ней приложил, а дед ка-ак смыканет удилищу
вверх! Леска-то осмыгнулась у меня в руке, крючок и промзил верхнюю губу. Тут я кричать,
а вода в рот льется. Дед же тянет удилищу, норовит меня вываживать. Я, конечно, от
великой боли ногами болтаю, волокусь на крючке и уж чую, как дед под меня черпачок в
воде подсовывает… Ну, тут я, натурально, вынырнул и реванул дурным голосом. Дед обмер,
хочет крестное знамение сотворить и не могет, у самого морда стала от страха чернее чугуна.
Да и как ему было не перепугаться? Тянул щуку, а вытянул парнишку. Стоял, стоял он, да,
эх, как вдарится бечь!.. Чирики с ног ажник у него соскакивают! Я с этим крючком в губе
домой прибыл. Отец крючок-то вырезал, а потом меня же и высек до потери сознательности.
А спрашивается, что толку-то? Губа обратно срослась, но с той поры и кличут меня
Щукарем. Присохла на мне глупая эта кличка… На другой год весной выгоняю гусят к
ветряку стеречь. Ветряк работает, гусятки мои поблизу пасутся, а над ними коршун кружит.
Гусятки желтые, завлекательные и хочется коршуну ухватить какого-нибудь, но я их,
натурально, остерегаю и на коршуна кшикаю и шумлю». «Шу-гууу!» Прибегают тут мои
друзья ребятишки, и начинаем мы на крыльях ветряка кататься: хватаемся по одному за
крыло, оно подымает от земли аршина на два, тут руки разжимаешь и падаешь на землю,
лежишь, а то другое крыло зацепит. А ребятишки, это — чистые враженята! Придумали ж
игру: кто выше всех подымется, энтот будет «царем», и ездить ему на других верхом от
ветряка до гумна. Ну, каждому интересно «царем» побывать. И я думаю: «Зараз выше всех
подымусь!», а про гусят-то и позабыл. Подымает меня крыло, да только глядь я, а над
гусятами коршун, вот-вот ухватит. Испужался я — слов нет, порка мне будет за гусенка…
«Ребяты! — шумлю, — коршун! Коршуна отгоните!..» А сам тем секундом и запамятовал,
что я на крыле нахожуся… Когда опомнился, а меня от земли-то черт-те куда уперло! И вниз
сигать страшно, и вверх лететь ишо страшнее. А куда же денешься? Пока я мечтал, как мне
быть, крыло сторчмя встало, и я на нем кверх ногами встромленный. А как начало крыло к
земле опушаться, я и оторвался. Неизвестно, сколько моментов до земли летел, сдавалось
мне, что дюже долго, но только долетел и, натурально, вдарился. Вгорячах вскочил, гляжу,
из рук возля кистей мослы наружу повыпнулись. И больно мне тут стало неподобно, ко
всему интерес пропал: коршун гусенка таки спер, а мне это ничуть не интересно.
Костоправка мослы мне обратно по местам водворила, а что толку-то? Все одно мне их на
другой год сызнова повыворачивало и самого изрезало косогоном. Посля петрова дня
поехали со старшим братом житу косить. Я коньми правлю, а брат мечет с косилки. Гоню я
коней, над ними овода кружутся, белое солнце в небе, и такая жара, что я начисто сомлел,
падаю в дремоте со стульца. Только, промежду прочего — луп глазами, и вижу, на борозде,
сбочь меня протянулся, как кнут, лежит огромаднейший дудак-усач. Приостановил я коней,
брат говорит: «Я его вилами!» А я говорю: «Дай, братушка, я сигну на него и живого его
схвачу?» — «Сигай!» — говорит. Ну, я и сигнул, ухватил этого дудака поперек, а он как
пырхнет бечь! Крылья-то выпростал, бьет меня ими по голове, подсигивает и волокет меня