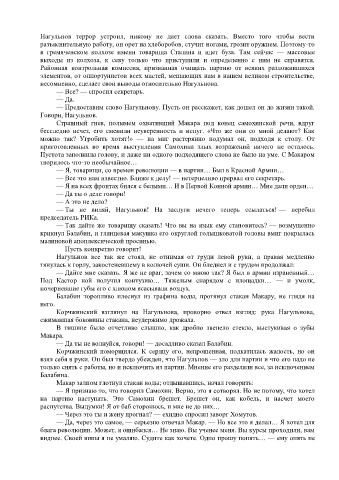Page 137 - Поднятая целина
P. 137
Нагульнов террор устроил, никому не дает слова сказать. Вместо того чтобы вести
разъяснительную работу, он орет на хлеборобов, стучит ногами, грозит оружием. Поэтому-то
в гремяченском колхозе имени товарища Сталина и идет буза. Там сейчас — массовые
выходы из колхоза, к севу только что приступили и определенно с ним не справятся.
Районная контрольная комиссия, призванная очищать партию от всяких разложившихся
элементов, от оппортунистов всех мастей, мешающих нам в нашем великом строительстве,
несомненно, сделает свои выводы относительно Нагульнова.
— Все? — спросил секретарь.
— Да.
— Предоставим слово Нагульнову. Пусть он расскажет, как дошел он до жизни такой.
Говори, Нагульнов.
Страшный гнев, полымем охвативший Макара под конец самохинской речи, вдруг
бесследно исчез, его сменили неуверенность и испуг. «Что же они со мной делают? Как
можно так? Угробить хотят!» — на миг растерянно подумал он, подходя к столу. От
приготовленных во время выступления Самохина злых возражений ничего не осталось.
Пустота заполнила голову, и даже ни одного подходящего слова не было на уме. С Макаром
творилось что-то необычайное…
— Я, товарищи, со времен революции — в партии… Был в Красной Армии…
— Все это нам известно. Ближе к делу! — нетерпеливо прервал его секретарь.
— Я на всех фронтах бился с белыми… И в Первой Конной армии… Мне дали орден…
— Да ты о деле говори!
— А это не дело?
— Ты не виляй, Нагульнов! На заслуги нечего теперь ссылаться! — перебил
председатель РИКа.
— Так дайте же товарищу сказать! Что вы на язык ему становитесь? — возмущенно
крикнул Балабин, и глянцевая макушка его округлой голышковатой головы вмиг покрылась
малиновой апоплексической просинью.
— Пусть конкретно говорит!
Нагульнов все так же стоял, не отнимая от груди левой руки, а правая медленно
тянулась к горлу, закостеневшему в колючей суши. Он бледнел и с трудом продолжал:
— Дайте мне сказать. Я же не враг, зачем со мною так? Я был в армии израненный…
Под Кастор ной получил контузию… Тяжелым снарядом с площадки… — и умолк,
почерневшие губы его с хлюпом всасывали воздух.
Балабин торопливо плеснул из графина воды, протянул стакан Макару, не глядя на
него.
Корчжинский взглянул на Нагульнова, проворно отвел взгляд: рука Нагульнова,
сжимавшая боковины стакана, неудержимо дрожала.
В тишине было отчетливо слышно, как дробно звенело стекло, выстукивая о зубы
Макара.
— Да ты не волнуйся, говори! — досадливо сказал Балабин.
Корчжинский поморщился. К сердцу его, непрошенная, подкатилась жалость, но он
взял себя в руки. Он был твердо убежден, что Нагульнов — зло для партии и что его надо не
только снять с работы, но и исключить из партии. Мнение его разделяли все, за исключением
Балабина.
Макар залпом глотнул стакан воды; отдышавшись, начал говорить:
— Я признаю то, что говорил Самохин. Верно, это я сотворял. Но не потому, что хотел
на партию наступать. Это Самохин брешет. Брешет он, как кобель, и насчет моего
распутства. Выдумки! Я от баб сторонюсь, и мне не до них…
— Через это ты и жену прогнал? — ехидно спросил заворг Хомутов.
— Да, через это самое, — серьезно отвечал Макар. — Но все это я делал… Я хотел для
блага революции. Может, я ошибался… Не знаю. Вы ученее меня. Вы курсы проходили, вам
виднее. Своей вины я не умаляю. Судите как хочете. Одно прошу понять… — ему опять не