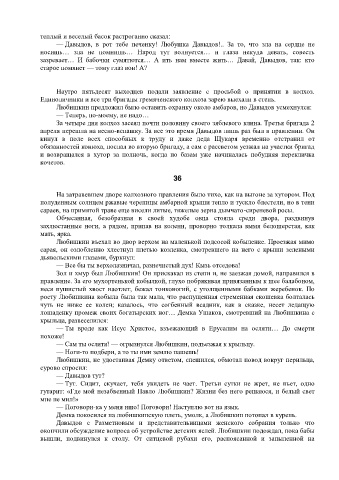Page 157 - Поднятая целина
P. 157
теплый и веселый басок растроганно сказал:
— Давыдов, в рот тебе печенку! Любушка Давыдов!.. За то, что зла на сердце не
носишь… зла не помнишь… Народ тут волнуется… и глаза некуда девать, совесть
зазревает… И бабочки сумятются… А ить нам вместе жить… Давай, Давыдов, так: кто
старое помянет — тому глаз вон! А?
Наутро пятьдесят выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз.
Единоличники и все три бригады гремяченского колхоза зарею выехали в степь.
Любишкин предложил было оставить охранку около амбаров, но Давыдов усмехнулся:
— Теперь, по-моему, не надо…
За четыре дня колхоз засеял почти половину своего зяблевого клина. Третья бригада 2
апреля перешла на весно-вспашку. За все это время Давыдов лишь раз был в правлении. Он
кинул в поле всех способных к труду и даже деда Щукаря временно отстранил от
обязанностей конюха, послал во вторую бригаду, а сам с рассветом уезжал на участки бригад
и возвращался в хутор за полночь, когда по базам уже начиналась побудняя перекличка
кочетов.
36
На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под
полуденным солнцем ржавые черепицы амбарной крыши тепло и тускло блестели, но в тени
сараев, на примятой траве еще висели литые, тяжелые зерна дымчато-сиреневой росы.
Обчесанная, безобразная в своей худобе овца стояла среди двора, раздвинув
захлюстанные ноги, а рядом, припав на колени, проворно толкала вымя белошерстая, как
мать, ярка.
Любишкин въехал во двор верхом на маленькой подсосой кобыленке. Проезжая мимо
сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными
дьявольскими глазами, буркнул:
— Все бы ты верхолазничал, разнечистый дух! Кызь отседова!
Зол и хмур был Любишкин! Он прискакал из степи и, не заезжая домой, направился в
правление. За его мухортенькой кобылкой, глухо побрякивая привязанным к шее балабоном,
неся пушистый хвост наотлет, бежал тонконогий, с утолщенными бабками жеребенок. По
росту Любишкина кобыла была так мала, что распущенная стременная скошевка болталась
чуть не ниже ее колен; казалось, что согбенный всадник, как в сказке, несет ледащую
лошаденку промеж своих богатырских ног… Демка Ушаков, смотревший на Любишкина с
крыльца, развеселился:
— Ты вроде как Исус Христос, взъежающий в Ерусалим на осляти… До смерти
похоже!
— Сам ты ослятя! — огрызнулся Любишкин, подъезжая к крыльцу.
— Ноги-то подбери, а то ты ими землю пашешь!
Любишкин, не удостаивая Демку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца,
сурово спросил:
— Давыдов тут?
— Тут. Сидит, скучает, тебя увидеть не чает. Третьи сутки не жрет, не пьет, одно
гутарит: «Где мой незабвенный Павло Любишкин? Жизни без него решаюся, и белый свет
мне не мил!»
— Поговори-ка у меня ишо! Поговори! Наступлю вот на язык.
Демка покосился на любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин потопал в курень.
Давыдов с Разметновым и представительницами женского собрания только что
окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любишкин подождал, пока бабы
вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запыленной на