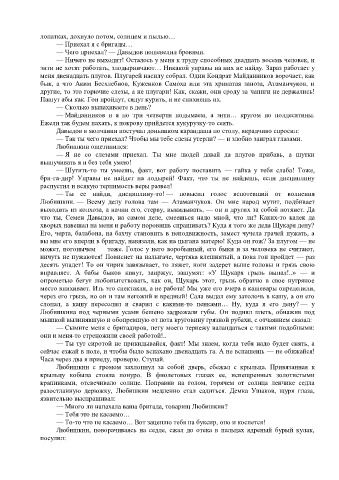Page 158 - Поднятая целина
P. 158
лопатках, дохнуло потом, солнцем и пылью…
— Приехал я с бригады…
— Чего приехал? — Давыдов пошевелил бровями.
— Ничего не выходит! Осталось у меня к труду способных двадцать восемь человек, и
энти не хотят работать, злодырничают… Никакой управы на них не найду. Зараз работает у
меня двенадцать плугов. Плугарей насилу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает, как
бык, а что Аким Бесхлебнов, Куженков Самоха или эта хрипатая заноза, Атаманчуков, и
другие, то это горючие слезы, а не плугари! Как, скажи, они сроду за чапиги не держались!
Пашут абы как. Гон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их.
— Сколько выпахиваете в день?
— Майданников и я по три четверти подымаем, а энти… кругом по полдесятины.
Ежели так будем пахать, к покрову прийдется кукурузку-то сеять.
Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкрадчиво спросил:
— Так ты чего приехал? Чтобы мы тебе слезы утерли? — и злобно заиграл глазами.
Любишкин ощетинился:
— Я не со слезами приехал. Ты мне людей давай да плугов прибавь, а шутки
вышучивать я и без тебя умею!
— Шутить-то ты умеешь, факт, вот работу поставить — гайка у тебя слаба! Тоже,
бри-га-дир! Управы не найдет на лодырей! Факт, что ты не найдешь, если дисциплину
распустил и всякую терпимость веры развел!
— Ты ее найди, дисциплину-то! — повысил голос вспотевший от волнения
Любишкин. — Всему делу голова там — Атаманчуков. Он мне народ мутит, подбивает
выходить из колхоза, а начни его, стерву, выкидывать, — он и других за собой потянет. Да
что ты, Семен Давыдов, на самом деле, смеешься надо мной, что ли? Каких-то калек да
хворых навешал на меня и работу норовишь спрашивать? Куда я того же деда Щукаря дену?
Его, черта, балабона, на бахчу становить в неподвижность, замест чучела грачей пужать, а
вы мне его вперли в бригаду, навязали, как на цыгана матерю! Куда он гож? За плугом — не
может, погонычем — тоже. Голос у него воробьиный, его быки и за человека не считают,
ничуть не пужаются! Повиснет на налыгаче, чертяка клешнятый, а пока гон пройдет — раз
десять упадет! То он чирик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грязь свою
вправляет. А бабы быков кинут, заиржут, зашумят: «У Щукаря грызь выпал!..» — и
опрометью бегут любопытствовать, как он, Щукарь этот, грызь обратно в свое нутряное
место впихивает. Ить это спектакля, а не работа! Мы уже его вчера в кашевары определили,
через его грызь, но он и там негожий и вредный! Сала выдал ему затолочь в кашу, а он его
слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками… Ну, куда я его дену? — у
Любишкина под черными усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив под
мышкой вылинявшую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал:
— Сымите меня с бригадиров, нету моего терпежу валандаться с такими подобными:
они и меня-то стреножили своей работой!..
— Ты тут сиротой не прикидывайся, факт! Мы знаем, когда тебя надо будет снять, а
сейчас езжай в поле, и чтобы было вспахано двенадцать га. А не вспашешь — не обижайся!
Часа через два я приеду, проверю. Ступай.
Любишкин с громом захлопнул за собой дверь, сбежал с крыльца. Привязанная к
крыльцу кобыла стояла понуро. В фиолетовых глазах ее, испещренных золотистыми
крапинками, отсвечивало солнце. Поправив на голом, горячем от солнца ленчике седла
разостланную дерюжку, Любишкин медленно стал садиться. Демка Ушаков, щуря глаза,
язвительно выспрашивал:
— Много ли напахала ваша бригада, товарищ Любишкин?
— Тебя это не касаемо…
— То-то что не касаемо… Вот зацеплю тебя на буксир, оно и коснется!
Любишкин, поворачиваясь на седле, сжал до отека в пальцах ядреный бурый кулак,
посулил: