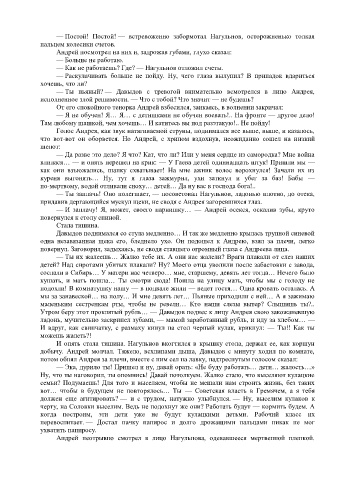Page 32 - Поднятая целина
P. 32
— Постой! Постой! — встревоженно забормотал Нагульнов, осторожненько толкая
пальцем колесики счетов.
Андрей посмотрел на них и, задрожав губами, глухо сказал:
— Больше не работаю.
— Как не работаешь? Где? — Нагульнов отложил счеты.
— Раскулачивать больше не пойду. Ну, чего глаза вылупил? В припадок вдариться
хочешь, что ли?
— Ты пьяный? — Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея,
исполненное злой решимости. — Что с тобой? Что значит — не будешь?
От его спокойного тенорка Андрей взбесился, заикаясь, в волнении закричал:
— Я не обучен! Я… Я… с детишками не обучен воевать!.. На фронте — другое дело!
Там любому шашкой, чем хочешь… И катитесь вы под разэтакую!.. Не пойду!
Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и казалось,
что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на низкий
шепот:
— Да разве это дело? Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война
влилася… — и опять перешел на крик: — У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы —
как они взъюжались, шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из
куреня выгонять… Ну, тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз! Бабы —
по-мертвому, водой отливали сноху… детей… Да ну вас в господа бога!..
— Ты заплачь! Оно полегшает, — посоветовал Нагульнов, ладонью плотно, до отека,
придавив дергающийся мускул щеки, не сводя с Андрея загоревшихся глаз.
— И заплачу! Я, может, своего парнишку… — Андрей осекся, оскалив зубы, круто
повернулся к столу спиной.
Стала тишина.
Давыдов поднимался со стула медленно… И так же медленно крылась трупной синевой
одна незавязанная щека его, бледнело ухо. Он подошел к Андрею, взял за плечи, легко
повернул. Заговорил, задыхаясь, не сводя ставшего огромный глаза с Андреева лица.
— Ты их жалеешь… Жалко тебе их. А они нас жалели? Враги плакали от слез наших
детей? Над сиротами убитых плакали? Ну? Моего отца уволили после забастовки с завода,
сослали в Сибирь… У матери нас четверо… мне, старшему, девять лет тогда… Нечего было
кушать, и мать пошла… Ты смотри сюда! Пошла на улицу мать, чтобы мы с голоду не
подохли! В комнатушку нашу — в подвале жили — ведет гостя… Одна кровать осталась. А
мы за занавеской… на полу… И мне девять лет… Пьяные приходили с ней… А я зажимаю
маленьким сестренкам рты, чтобы не ревели… Кто наши слезы вытер? Слышишь ты?..
Утром беру этот проклятый рубль… — Давыдов поднес к лицу Андрея свою закожаневшую
ладонь, мучительно заскрипел зубами, — мамой заработанный рубль, и иду за хлебом… —
И вдруг, как свинчатку, с размаху кинул на стол черный кулак, крикнул: — Ты!! Как ты
можешь жалеть?!
И опять стала тишина. Нагульнов вкогтился в крышку стола, держал ее, как коршун
добычу. Андрей молчал. Тяжело, всхлипами дыша, Давыдов с минуту ходил по комнате,
потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку, надтреснутым голосом сказал:
— Эка, дурило ты! Пришел и ну, давай орать: «Не буду работать… дети… жалость…»
Ну, что ты наговорил, ты опомнись! Давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие
семьи? Подумаешь! Для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь, без таких
вот… чтобы в будущем не повторялось… Ты — Советская власть в Гремячем, а я тебя
должен еще агитировать? — и с трудом, натужно улыбнулся. — Ну, выселим кулаков к
черту, на Соловки выселим. Ведь не подохнут же они? Работать будут — кормить будем. А
когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их
перевоспитает. — Достал пачку папирос и долго дрожащими пальцами никак не мог
ухватить папиросу.
Андрей неотрывно смотрел в лицо Нагульнова, одевавшееся мертвенной пленкой.