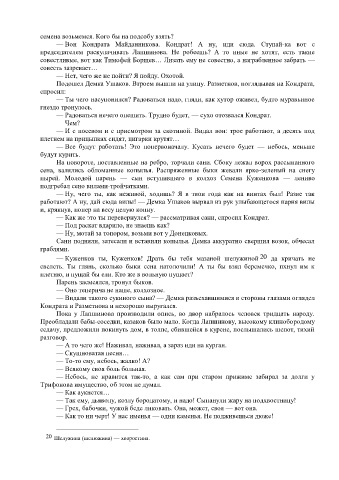Page 40 - Поднятая целина
P. 40
семена возьмемся. Кого бы на подсобу взять?
— Вон Кондрата Майданникова. Кондрат! А ну, иди сюда. Ступай-ка вот с
председателем раскулачивать Лапшинова. Не робеешь? А то иные не хотят, есть такие
совестливые, вот как Тимофей Борщев… Лизать ему не совестно, а награбленное забрать —
совесть зазревает…
— Нет, чего же не пойти? Я пойду. Охотой.
Подошел Демка Ушаков. Втроем вышли на улицу. Разметнов, поглядывая на Кондрата,
спросил:
— Ты чего насупонился? Радоваться надо, гляди, как хутор оживел, будто муравьиное
гнездо тронулось.
— Радоваться нечего опешить. Трудно будет, — сухо отозвался Кондрат.
— Чем?
— И с посевом и с присмотром за скотиной. Видал вон: трое работают, а десять под
плетнем на прицыпках сидят, цигарки крутят…
— Все будут работать! Это попервоначалу. Кусать нечего будет — небось, меньше
будут курить.
На повороте, поставленные на ребро, торчали сани. Сбоку лежал ворох рассыпанного
сена, валялись обломанные копылья. Распряженные быки жевали ярко-зеленый на снегу
пырей. Молодой парень — сын вступившего в колхоз Семена Куженкова — лениво
подгребал сено вилами-тройчатками.
— Ну, чего ты, как неживой, ходишь? Я в твои года как на винтах был! Разве так
работают? А ну, дай сюда вилы! — Демка Ушаков вырвал из рук улыбающегося парня вилы
и, крякнув, попер на весу целую копну.
— Как же это ты перевернулся? — рассматривая сани, спросил Кондрат.
— Под раскат вдарило, не знаешь как?
— Ну, мотай за топором, возьми вот у Донецковых.
Сани подняли, затесали и вставили копылья. Демка аккуратно свершил возок, обчесал
граблями.
— Куженков ты, Куженков! Драть бы тебя мазаной шелужиной 20 да кричать не
свелеть. Ты глянь, сколько быки сена натолочили! А ты бы взял беремечко, пхнул им к
плетню, и пущай бы ели. Кто же в вольную пущает?
Парень засмеялся, тронул быков.
— Оно теперича не наше, колхозное.
— Видали такого сукиного сына? — Демка разъехавшимися в стороны глазами оглядел
Кондрата и Разметнова и нехорошо выругался.
Пока у Лапшинова производили опись, во двор набралось человек тридцать народу.
Преобладали бабы-соседки, казаков было мало. Когда Лапшинову, высокому клинобородому
седачу, предложили покинуть дом, в толпе, сбившейся в курене, послышались шепот, тихий
разговор.
— А то чего же! Наживал, наживал, а зараз иди на курган.
— Скушноватая песня…
— То-то ему, небось, жалко! А?
— Всякому своя боль больная.
— Небось, не нравится так-то, а как сам при старом прижиме забирал за долги у
Трифонова имущество, об этом не думал.
— Как аукнется…
— Так ему, дьяволу, козлу бородатому, и надо! Сыпанули жару на подхвостницу!
— Грех, бабочки, чужой беде ликовать. Она, может, своя — вот она.
— Как то ни черт! У нас именья — одни каменья. Не подживешься дюже!
20 Шелужина (шелюжина) — хворостина.