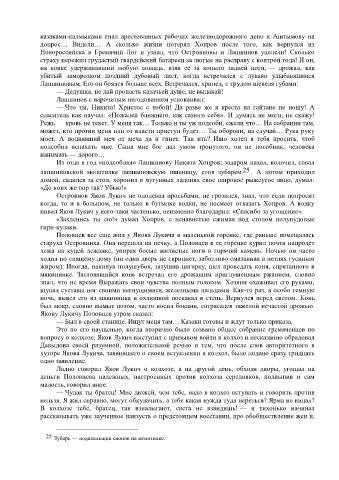Page 44 - Поднятая целина
P. 44
казаками-калмыками гнал арестованных рабочих железнодорожного депо к Аштымову на
допрос… Видели… А сколько жизни потерял Хопров после того, как вернулся из
Новороссийска в Гремячий Лог и узнал, что Островновы и Лапшинов уцелели! Сколько
страху пережил грудастый гвардейский батареец за лютые на расправу с контрой года! И он,
на ковке удерживавший любую лошадь, взяв ее за копыто задней ноги, — дрожал, как
убитый заморозком поздний дубовый лист, когда встречался с лукаво улыбающимся
Лапшиновым. Его он боялся больше всех. Встречался, хрипел, с трудом шевеля губами:
— Дедушка, не дай пропасть казачьей душе, не выдавай!
Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал:
— Что ты, Никита! Христос с тобой! Да разве же я креста на гайтане не ношу! А
спаситель как научал: «Пожалей ближнего, как самого себя». И думать не моги, не скажу!
Режь — кровь не текет. У меня так… Только и ты уж подсоби, ежели что… На собрании там,
может, кто против меня или от власти приступ будет… Ты оборони, на случай… Рука руку
моет. А поднявший меч от меча да и гинет. Так ить? Ишо хотел я тебя просить, чтоб
подсобил вспахать мне. Сына мне бог дал умом тронутого, он не пособник, человека
нанимать — дорого…
Из года в год «подсоблял» Лапшинову Никита Хопров; задаром пахал, волочил, совал
лапшиновской молотилке лапшиновскую пшеницу, стоя зубарем 25 . А потом приходил
домой, садился за стол, хоронил в чугунных ладонях свое широкое рыжеусое лицо, думал:
«До коих же пор так? Убью!»
Островнов Яков Лукич не одолевал просьбами, не грозился, знал, что если попросит
когда, то и в большом, не только в бутылке водки, не посмеет отказать Хопров. А водку
пивал Яков Лукич у него-таки частенько, неизменно благодарил: «Спасибо за угощение».
«Захленись ты ею!» думал Хопров, с ненавистью сжимая под столом полупудовые
гири-кулаки.
Половцев все еще жил у Якова Лукича в маленькой горенке, где раньше помещалась
старуха Островниха. Она перешла на печку, а Половцев в ее горенке курил почти напролет
лежа на куцей лежанке, упирая босые жилистые ноги в горячий камень. Ночью он часто
ходил по спящему дому (ни одна дверь не скрипнет, заботливо смазанная в петлях гусиным
жиром). Иногда, накинув полушубок, затушив цигарку, шел проведать коня, спрятанного в
мякиннике. Застоявшийся конь встречал его дрожащим приглушенным ржанием, словно
знал, что не время Выражать свои чувства полным голосом. Хозяин охаживал его руками,
щупал суставы ног своими негнущимися, железными пальцами. Как-то раз, в особо темную
ночь, вывел его из мякинника и охлюпкой поскакал в степь. Вернулся перед светом. Конь
был мокр, словно вымыт потом, часто носил боками, сотрясался тяжелой нечастой дрожью.
Якову Лукичу Половцев утром сказал:
— Был в своей станице. Ищут меня там… Казаки готовы и ждут только приказа.
Это по его наущенью, когда вторично было созвано общее собрание гремяченцев по
вопросу о колхозе, Яков Лукич выступил с призывом войти в колхоз и несказанно обрадовал
Давыдова своей разумной, положительной речью и тем, что после слов авторитетного в
хуторе Якова Лукича, заявившего о своем вступлении в колхоз, было подано сразу тридцать
одно заявление.
Ладно говорил Яков Лукич о колхозе, а на другой день, обходя дворы, угощал на
деньги Половцева надежных, настроенных против колхоза середняков, подвыпив и сам
малость, говорил иное:
— Чудак ты братец! Мне дюжей, чем тебе, надо в колхоз вступать и говорить против
нельзя. Я жил справно, могут обкулачить, а тебе какая нужда туда переться? Ярма не видал?
В колхозе тебе, братец, так взналыгают, света не взвидишь! — и тихонько начинал
рассказывать уже заученное наизусть о предстоящем восстании, про обобществление жен и,
25 Зубарь — подавальщик снопов на молотилке.