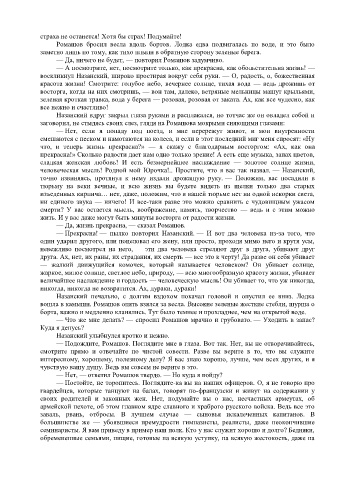Page 114 - Поединок
P. 114
страха не останется! Хотя бы страх! Подумайте!
Ромашов бросил весла вдоль бортов. Лодка едва подвигалась по воде, и это было
заметно лишь по тому, как тихо плыли в обратную сторону зеленые берега.
— Да, ничего не будет, — повторил Ромашов задумчиво.
— А посмотрите, нет, посмотрите только, как прекрасна, как обольстительна жизнь! —
воскликнул Назанский, широко простирая вокруг себя руки. — О, радость, о, божественная
красота жизни! Смотрите: голубое небо, вечернее солнце, тихая вода — ведь дрожишь от
восторга, когда на них смотришь, — вон там, далеко, ветряные мельницы машут крыльями,
зеленая кроткая травка, вода у берега — розовая, розовая от заката. Ах, как все чудесно, как
все нежно и счастливо!
Назанский вдруг закрыл глаза руками и расплакался, но тотчас же он овладел собой и
заговорил, не стыдясь своих слез, глядя на Ромашова мокрыми сияющими глазами:
— Нет, если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности
смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: «Ну
что, и теперь жизнь прекрасна?» — я скажу с благодарным восторгом: «Ах, как она
прекрасна!» Сколько радости дает нам одно только зрение! А есть еще музыка, запах цветов,
сладкая женская любовь! И есть безмернейшее наслаждение — золотое солнце жизни,
человеческая мысль! Родной мой Юрочка!.. Простите, что я вас так назвал. — Назанский,
точно извиняясь, протянул к нему издали дрожащую руку. — Положим, вас посадили в
тюрьму на веки вечные, и всю жизнь вы будете видеть из щелки только два старых
изъеденных кирпича… нет, даже, положим, что в вашей тюрьме нет ни одной искорки света,
ни единого звука — ничего! И все-таки разве это можно сравнить с чудовищным ужасом
смерти? У вас остается мысль, воображение, память, творчество — ведь и с этим можно
жить. И у вас даже могут быть минуты восторга от радости жизни.
— Да, жизнь прекрасна, — сказал Ромашов.
— Прекрасна! — пылко повторил Назанский. — И вот два человека из-за того, что
один ударил другого, или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы,
невежливо посмотрел на него, — эти два человека стреляют друг в друга, убивают друг
друга. Ах, нет, их раны, их страдания, их смерть — все это к черту! Да разве он себя убивает
— жалкий движущийся комочек, который называется человеком? Он убивает солнце,
жаркое, милое солнце, светлое небо, природу, — всю многообразную красоту жизни, убивает
величайшее наслаждение и гордость — человеческую мысль! Он убивает то, что уж никогда,
никогда, никогда не возвратится. Ах, дураки, дураки!
Назанский печально, с долгим вздохом покачал головой и опустил ее вниз. Лодка
вошла в камыши. Ромашов опять взялся за весла. Высокие зеленые жесткие стебли, шурша о
борта, важно и медленно кланялись. Тут было темнее и прохладнее, чем на открытой воде.
— Что же мне делать? — спросил Ромашов мрачно и грубовато. — Уходить в запас?
Куда я денусь?
Назанский улыбнулся кротко и нежно.
— Подождите, Ромашов. Поглядите мне в глаза. Вот так. Нет, вы не отворачивайтесь,
смотрите прямо и отвечайте по чистой совести. Разве вы верите в то, что вы служите
интересному, хорошему, полезному делу? Я вас знаю хорошо, лучше, чем всех других, и я
чувствую вашу душу. Ведь вы совсем не верите в это.
— Нет, — ответил Ромашов твердо. — Но куда я пойду?
— Постойте, не торопитесь. Поглядите-ка вы на наших офицеров. О, я не говорю про
гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у
своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об
армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это
заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае — сыновья искалеченных капитанов. В
большинстве же — убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже неокончившие
семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки,
обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на