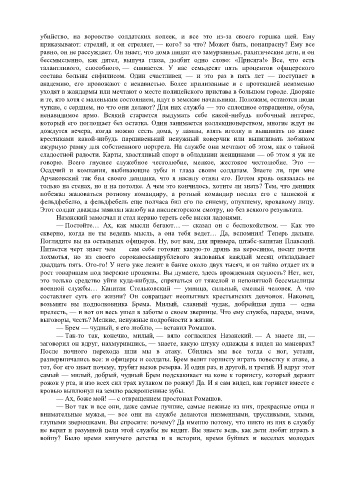Page 115 - Поединок
P. 115
убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему
приказывают: стреляй, и он стреляет, — кого? за что? Может быть, понапрасну? Ему все
равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные, рахитические дети, и он
бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово: «Присяга!» Все, что есть
талантливого, способного, — спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского
состава больны сифилисом. Один счастливец — и это раз в пять лет — поступает в
академию, его провожают с ненавистью. Более прилизанные и с протекцией неизменно
уходят в жандармы или мечтают о месте полицейского пристава в большом городе. Дворяне
и те, кто хотя с маленьким состоянием, идут в земские начальники. Положим, остаются люди
чуткие, с сердцем, но что они делают? Для них служба — это сплошное отвращение, обуза,
ненавидимое ярмо. Всякий старается выдумать себе какой-нибудь побочный интерес,
который его поглощает без остатка. Один занимается коллекционерством, многие ждут не
дождутся вечера, когда можно сесть дома, у лампы, взять иголку и вышивать по канве
крестиками какой-нибудь паршивенький ненужный коверчик или выпиливать лобзиком
ажурную рамку для собственного портрета. На службе они мечтают об этом, как о тайной
сладостной радости. Карты, хвастливый спорт в обладании женщинами — об этом я уж не
говорю. Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, жестокое честолюбие. Это —
Осадчий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. Знаете ли, при мне
Арчаковский так бил своего денщика, что я насилу отнял его. Потом кровь оказалась не
только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось, хотите ли знать? Тем, что денщик
побежал жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал его с запиской к
фельдфебелю, а фельдфебель еще полчаса бил его по синему, опухшему, кровавому лицу.
Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата.
Назанский замолчал и стал нервно тереть себе виски ладонями.
— Постойте… Ах, как мысли бегают… — сказал он с беспокойством. — Как это
скверно, когда не ты ведешь мысль, а она тебя ведет… Да, вспомнил! Теперь дальше.
Поглядите вы на остальных офицеров. Ну, вот вам, для примера, штабс-капитан Плавский.
Питается черт знает чем — сам себе готовит какую-то дрянь на керосинке, носит почти
лохмотья, но из своего сорокавосьмирублевого жалованья каждый месяц откладывает
двадцать пять. Ого-го! У него уже лежит в банке около двух тысяч, и он тайно отдает их в
рост товарищам под зверские проценты. Вы думаете, здесь врожденная скупость? Нет, нет,
это только средство уйти куда-нибудь, спрятаться от тяжелой и непонятной бессмыслицы
военной службы… Капитан Стельковский — умница, сильный, смелый человек. А что
составляет суть его жизни? Он совращает неопытных крестьянских девчонок. Наконец,
возьмите вы подполковника Брема. Милый, славный чудак, добрейшая душа — одна
прелесть, — и вот он весь ушел в заботы о своем зверинце. Что ему служба, парады, знамя,
выговоры, честь? Мелкие, ненужные подробности в жизни.
— Брем — чудный, я его люблю, — вставил Ромашов.
— Так-то так, конечно, милый, — вяло согласился Назанский. — А знаете ли, —
заговорил он вдруг, нахмурившись, — знаете, какую штуку однажды я видел на маневрах?
После ночного перехода шли мы в атаку. Сбились мы все тогда с ног, устали,
разнервничались все: и офицеры и солдаты. Брем велит горнисту играть повестку к атаке, а
тот, бог его знает почему, трубит вызов резерва. И один раз, и другой, и третий. И вдруг этот
самый — милый, добрый, чудный Брем подскакивает на коне к горнисту, который держит
рожок у рта, и изо всех сил трах кулаком по рожку! Да. И я сам видел, как горнист вместе с
кровью выплюнул на землю раскрошенные зубы.
— Ах, боже мой! — с отвращением простонал Ромашов.
— Вот так и все они, даже самые лучшие, самые нежные из них, прекрасные отцы и
внимательные мужья, — все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми,
глупыми зверюшками. Вы спросите: почему? Да именно потому, что никто из них в службу
не верит и разумной цели этой службы не видит. Вы знаете ведь, как дети любят играть в
войну? Было время кипучего детства и в истории, время буйных и веселых молодых