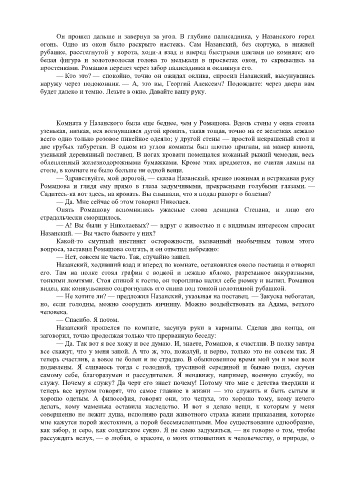Page 23 - Поединок
P. 23
Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника, у Назанского горел
огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней
рубашке, расстегнутой у ворота, ходи-л взад и вперед быстрыми шагами по комнате; его
белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за
простенками. Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его.
— Кто это? — спокойно, точно он ожидал оклика, спросил Назанский, высунувшись
наружу через подоконник. — А, это вы, Георгий Алексеич? Подождите: через двери вам
будет далеко и темно. Лезьте в окно. Давайте вашу руку.
Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены у окна стояла
узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать, такая тощая, точно на ее железках лежало
всего одно только розовое пикейное одеяло; у другой стены — простой некрашеный стол и
две грубых табуретки. В одном из углов комнаты был плотно пригнан, на манер кивота,
узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался кожаный рыжий чемодан, весь
облепленный железнодорожными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы на
столе, в комнате не было больше ни одной вещи.
— Здравствуйте, мой дорогой, — сказал Назанский, крепко пожимая и встряхивая руку
Ромашова и глядя ему прямо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами. —
Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал рапорт о болезни?
— Да. Мне сейчас об этом говорил Николаев.
Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика Степана, и лицо его
страдальчески сморщилось.
— А! Вы были у Николаевых? — вдруг с живостью и с видимым интересом спросил
Назанский. — Вы часто бываете у них?
Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный необычным тоном этого
вопроса, заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно:
— Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел.
Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около поставца и отворил
его. Там на полке стоял графин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными,
тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил себе рюмку и выпил. Ромашов
видел, как конвульсивно содрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой.
— Не хотите ли? — предложил Назанский, указывая на поставец. — Закуска небогатая,
но, если голодны, можно соорудить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого
человека.
— Спасибо. Я потом.
Назанский прошелся по комнате, засунув руки в карманы. Сделав два конца, он
заговорил, точно продолжая только что прерванную беседу:
— Да. Так вот я все хожу и все думаю. И, знаете, Ромашов, я счастлив. В полку завтра
все скажут, что у меня запой. А что ж, это, пожалуй, и верно, только это не совсем так. Я
теперь счастлив, а вовсе не болен и не страдаю. В обыкновенное время мой ум и моя воля
подавлены. Я сливаюсь тогда с голодной, трусливой серединой и бываю пошл, скучен
самому себе, благоразумен и рассудителен. Я ненавижу, например, военную службу, но
служу. Почему я служу? Да черт его знает почему! Потому что мне с детства твердили и
теперь все кругом говорят, что самое главное в жизни — это служить и быть сытым и
хорошо одетым. А философия, говорят они, это чепуха, это хорошо тому, кому нечего
делать, кому маменька оставила наследство. И вот я делаю вещи, к которым у меня
совершенно не лежит душа, исполняю ради животного страха жизни приказания, которые
мне кажутся порой жестокими, а порой бессмысленными. Мое существование однообразно,
как забор, и серо, как солдатское сукно. Я не смею задуматься, — не говорю о том, чтобы
рассуждать вслух, — о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о