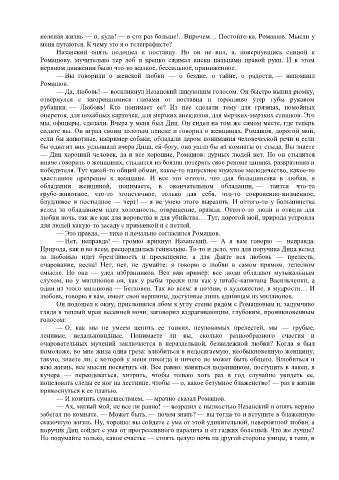Page 26 - Поединок
P. 26
нелепая жизнь — о, куда! — в сто раз больше!.. Впрочем… Постойте-ка, Ромашов. Мысли у
меня путаются. К чему это я о телеграфисте?
Назанский опять подошел к поставцу. Но он не вил, а, повернувшись спиной к
Ромашову, мучительно тер лоб и крепко сжимал виски пальцами правой руки. И в этом
нервном движении было что-то жалкое, бессильное, приниженное.
— Вы говорили о женской любви — о бездне, о тайне, о радости, — напомнил
Ромашов.
— Да, любовь! — воскликнул Назанский ликующим голосом. Он быстро выпил рюмку,
отвернулся с загоревшимися глазами от поставца и торопливо утер губы рукавом
рубашки. — Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для грязных, помойных
опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это
мы, офицеры, сделали. Вчера у меня был Диц. Он сидел на том же самом месте, где теперь
сидите вы. Он играл своим золотым пенсне и говорил о женщинах. Ромашов, дорогой мой,
если бы животные, например собаки, обладали даром понимания человеческой речи и если
бы одна из них услышала вчера Дица, ей-богу, она ушла бы из комнаты от стыда. Вы знаете
— Диц хороший человек, да и все хорошие, Ромашов: дурных людей нет. Но он стыдится
иначе говорить о женщинах, стыдится из боязни потерять свое реноме циника, развратника и
победителя. Тут какой-то общий обман, какое-то напускное мужское молодечество, какое-то
хвастливое презрение к женщине. И все это оттого, что для большинства в любви, в
обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании, — таится что-то
грубо-животное, что-то эгоистичное, только для себя, что-то сокровенно-низменное,
блудливое и постыдное — черт! — я не умею этого выразить. И оттого-то у большинства
вслед за обладанием идет холодность, отвращение, вражда. Оттого-то люди и отвели для
любви ночь, так же как для воровства и для убийства… Тут, дорогой мой, природа устроила
для людей какую-то засаду с приманкой и с петлей.
— Это правда, — тихо и печально согласился Ромашов.
— Нет, неправда! — громко крикнул Назанский. — А я вам говорю — неправда.
Природа, как и во всем, распорядилась гениально. То-то и дело, что для поручика Дица вслед
за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь — прелесть,
очарование, весна! Нет, нет, не думайте: я говорю о любви в самом прямом, телесном
смысле. Но она — удел избранников. Вот вам пример: все люди обладают музыкальным
слухом, но у миллионов он, как у рыбы трески или как у штабс-капитана Васильченки, а
один из этого миллиона — Бетховен. Так во всем: в поэзии, в художестве, в мудрости… И
любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов.
Он подошел к окну, прислонился лбом к углу стены рядом с Ромашовым и, задумчиво
глядя в теплый мрак весенней ночи, заговорил вздрагивающим, глубоким, проникновенным
голосом:
— О, как мы не умеем ценить ее тонких, неуловимых прелестей, мы — грубые,
ленивые, недальновидные. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастия и
очаровательных мучений заключается в нераздельной, безнадежной любви? Когда я был
помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недосягаемую, необыкновенную женщину,
такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и
всю жизнь, все мысли посвятить ей. Все равно: наняться поденщиком, поступить в лакеи, в
кучера — переодеваться, хитрить, чтобы только хоть раз в год случайно увидеть ее,
поцеловать следы ее ног на лестнице, чтобы — о, какое безумное блаженство! — раз в жизни
прикоснуться к ее платью.
— И кончить сумасшествием, — мрачно сказал Ромашов.
— Ах, милый мой, не все ли равно! — возразил с пылкостью Назанский и опять нервно
забегал по комнате. — Может быть, — почем знать? — вы тогда-то и вступите в блаженную
сказочную жизнь. Ну, хорошо: вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а
поручик Диц сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше?
Но подумайте только, какое счастье — стоять целую ночь на другой стороне улицы, в тени, и