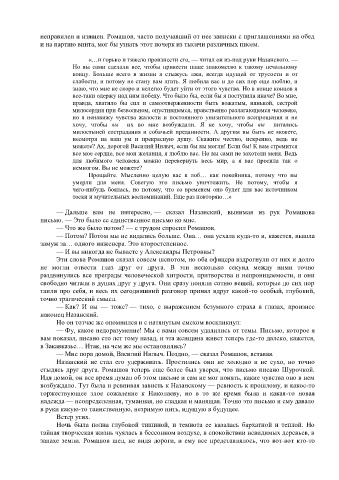Page 28 - Поединок
P. 28
неправилен и изящен. Ромашов, часто получавший от нее записки с приглашениями на обед
и на партию винта, мог бы узнать этот почерк из тысячи различных писем.
«…и горько и тяжело произнести его, — читал он из-под руки Назанского. —
Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному
концу. Больше всего в жизни я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и от
слабости, и потому не стану вам лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю, и
знаю, что мне не скоро и нелегко будет уйти от этого чувства. Но в конце концов я
все-таки одержу над ним победу. Что было бы, если бы я поступила иначе? Во мне,
правда, хватило бы сил и самоотверженности быть вожатым, нянькой, сестрой
милосердия при безвольном, опустившемся, нравственно разлагающемся человеке,
но я ненавижу чувства жалости и постоянного унизительного всепрощения и не
хочу, чтобы вы их во мне возбуждали. Я не хочу, чтобы вы питались
милостыней сострадания и собачьей преданности. А другим вы быть не можете,
несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренно, ведь не
можете? Ах, дорогой Василий Нилыч, если бы вы могли! Если бы! К вам стремится
все мое сердце, все мои желания, я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь
для любимого человека можно перевернуть весь мир, а я вас просила так о
немногом. Вы не можете?
Прощайте. Мысленно целую вас в лоб… как покойника, потому что вы
умерли для меня. Советую это письмо уничтожить. Не потому, чтобы я
чего-нибудь боялась, но потому, что со временем оно будет для вас источником
тоски и мучительных воспоминаний. Еще раз повторяю…»
— Дальше вам не интересно, — сказал Назанский, вынимая из рук Ромашова
письмо. — Это было ее единственное письмо ко мне.
— Что же было потом? — с трудом спросил Ромашов.
— Потом? Потом мы не видались больше. Она… она уехала куда-то и, кажется, вышла
замуж за… одного инженера. Это второстепенное.
— И вы никогда не бываете у Александры Петровны?
Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго
не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно
раздвинулись все преграды человеческой хитрости, притворства и непроницаемости, и они
свободно читали в душах друг у друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор
таили про себя, и весь их сегодняшний разговор принял вдруг какой-то особый, глубокий,
точно трагический смысл.
— Как? И вы — тоже? — тихо, с выражением безумного страха в глазах, произнес
наконец Назанский.
Но он тотчас же опомнился и с натянутым смехом воскликнул:
— Фу, какое недоразумение! Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я
вам показал, писано сто лет тому назад, и эта женщина живет теперь где-то далеко, кажется,
в Закавказье… Итак, на чем же мы остановились?
— Мне пора домой, Василий Нилыч. Поздно, — сказал Ромашов, вставая.
Назанский не стал его удерживать. Простились они не холодно и не сухо, но точно
стыдясь друг друга. Ромашов теперь еще более был уверен, что письмо писано Шурочкой.
Идя домой, он все время думал об этом письме и сам не мог понять, какие чувства оно в нем
возбуждало. Тут была и ревнивая зависть к Назанскому — ревность к прошлому, и какое-то
торжествующее злое сожаление к Николаеву, но в то же время была и какая-то новая
надежда — неопределенная, туманная, но сладкая и манящая. Точно это письмо и ему давало
в руки какую-то таинственную, незримую нить, идущую в будущее.
Ветер утих.
Ночь была полна глубокой тишиной, и темнота ее казалась бархатной и теплой. Но
тайная творческая жизнь чуялась в бессонном воздухе, в спокойствии невидимых деревьев, в
запахе земли. Ромашов шел, не видя дороги, и ему все представлялось, что вот-вот кто-то